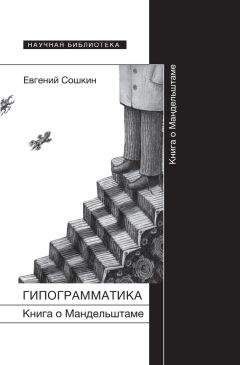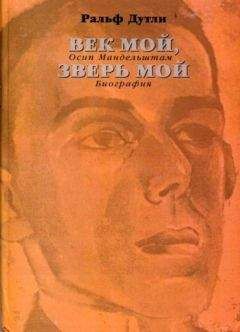Поэт чутко улавливает во временном вечное, и к вечному он обращен лицом. В юности он творит в постоянной тревоге за целость хрупкого вечного в тисках тяжелого временного. С конца 20-х годов временное грубее врывается в произведения Мандельштама, но не берет перевеса над вечным, хотя и угрожает ему. Мандельштам никогда не опускается до роли поэта-общественника, поэта-политика, но и не уклоняется от социальных и политических проблем. Последние известные нам его стихотворения полны подобных вопросов, на которые он всегда находит свои ответы, ответы самостоятельно мыслящей и неподкупной личности. Там, где «пишет страх, пишет сдвиг», у Мандельштама, «влагающего персты в кремнистый путь … как в язву», хватает гражданского мужества описать московские переулки, «шелушащиеся советской сонатинкой», призывать «поставить органные крылья» и на востоке и на западе и бросить в лицо увлеченным строительными темпами пятилетки:
Пусть это унизительно — поймите:
Есть блуд труда, и он у нас в крови.[68]
Мандельштам касается в своей поэзии и главной и обязательной для советского поэта темы революции, но идет ли речь о французской революции XVIII в. или о русской революции 1917 г., для него это тема равно историческая, и он беспристрастно говорит в связи с нею и о героизме, и о зле. Самое же основное, Мандельштам ни на минуту не ставит знака равенства между понятиями «революционный» и «советский». Может быть, это и заставило того советского критика, который, по словам Ильи Эренбурга, был поклонником поэзии Мандельштама, написать о нем как о «выразителе идей крупной буржуазии».[69] Эренбург горько смеется над этим определением, а сам Мандельштам заранее ответил на него стихотворением «С миром державным я был лишь ребячески связан».[70] Не проводник идеологии того или иного класса, а личность, и не бунтующая, а лишь позволяющая себе иметь свое собственное мнение о соотношениях добра и зла в окружающей среде, выступает в поэзии Мандельштама. Очевидно, такой беспристрастный свидетель страшнее принципиального врага, почему, быть может, поэт еще до сих пор и не реабилитирован.
Всем перечисленным выше отнюдь не исчерпывается еще пестрая вязь мандельштамовской тематики. В ней много неожиданного, чудесно-случайного.
О том, как тщательно работал Мандельштам и над темой, и над формой, свидетельствуют разные варианты одной и той же темы или повторение одинаковых или сходных отрывков в стихотворениях, близких по датам. Таковы два варианта «Соломинки». В стихотворениях «1 января 1924»[71] и «Нет, никогда ничей я не был современник»[72] повторяется четверостишие:
Два сонных яблока у века-властелина
И глиняный прекрасный рот,
Но к млеющей руке стареющего сына
Он, умирая, припадет.
С небольшими изменениями повторяются в обоих стихотворениях еще две строки:
Кто веку поднимал болезненные веки —
Два сонных яблока больших
(«1 января 1924»)
или:
Я с веком поднимал болезненные веки —
Два сонных яблока больших
(«Нет, никогда ничей я не был современник»).
Сходны по тексту, но почти противоположны по значению концовки стихотворений «Я не знаю, с каких пор» и «Я по лесенке приставной». Первое из них, полугрустное-полушутливое, заканчивается четверостишием:
Чтобы розовой крови связь,
Этих сухоньких трав звон,
Уворованная нашлась
Через век, сеновал, сон.[73]
Во втором после полушутливого начала появляются полные значения строки:
Не своей чешуей шуршим,
Против шерсти мира поем.
Стихотворение заканчивается словами:
Из горящих вырвусь рядов
И вернусь в родной звукоряд.
Чтобы розовой крови связь
И травы сухорукий звон
Распростились: одна скрепясь,
А другая — в заумный сон.[74]
Этот вариант представляет собой указание на дальнейшее развитие творчества автора.
До 1920 г. у Мандельштама много стихотворений, содержание и смысл которых не сразу, не с первого чтения открывается читателю, но все они могут быть поняты до конца, если в них вдуматься. Только одно стихотворение этого периода, «Что поют часы-кузнечик», может быть названо заумным, в остальных много, почти слишком много содержания. Как понимание раннего Пастернака затруднено сочетанием глубины содержания с силой эмоций, так понимание раннего Мандельштама затруднено сочетанием богатства содержания с богатством эрудиции: «Без высшего образования вкуса (для которого книжная премудрость не самоцель, а средство) понять Мандельштама трудно… нужно уметь и историей и искусством питаться», пишет Ю. Иваск в рецензии на Собрание сочинений Мандельштама, выпущенное изд-вом им. Чехова.[75]
В 20-х годах от этого основного ствола поэзии Мандельштама отделяются две ветви: одна часть его стихотворений начинает приближаться по понятности к классической простоте, а другая стремится, действительно, к «зауми». Постепенно ветви ширятся за счет ствола. Стихотворения Мандельштама, написанные около 1930 г., можно разделить на две группы: понятные с первого чтения и недоступные вполне обычному пониманию. Само собой разумеется, что «заумь» в поэзии Мандельштама можно усматривать только при хлебниковском понимании этого слова, т. е. в значении «надрассудочное», а не в обывательском понимании («бессмысленное»). Заумные стихи Мандельштама далеко не однородны. Легким туманом налетающая заумь в стихотворении «Что поют часы-кузнечик» — продукт настроения и вдохновения, она стихийна. Совсем другого рода заумь хотя бы «Грифельной оды» или «1 января 1924»: строго и стройно конструированная, она зашифровывает содержание, которое не должно стать достоянием каждого, а должно быть угадано, найдено «неизвестным адресатом».
Мандельштам был известен в русских кругах как мастер меткой эпиграммы. Часть его эпиграмм до сих пор недоступна читателю, может быть и безвозвратно утрачена. Является ли дошедшее до нас стихотворение «Мы живем, под собой не зная страны»[76] той знаменитой «эпиграммой на Сталина», за которую, по слухам, поэт был в 1934 г. выслан в Воронеж? Для эпиграммы это стихотворение несколько длинно, и сарказм его слишком отдает болью. Стилистическое сходство его с поэзией А. К. Толстого вызывает некоторое сомнение в авторстве Мандельштама, которому эта манера чужда, но могла иметь место и сознательная стилизация. Юмор раннего Мандельштама был автономен и редко проникал в общую лирику. В позднейший период в произведениях Мандельштама чаще звучит ирония.[77] К этому же периоду относятся отдельные стихотворения с легким жизнерадостным началом и неожиданно серьезным концом.[78] Новые тексты, дошедшие до нас из Советского Союза, показывают, что, чем тяжелее становилось поэту, тем теснее срасталась ирония с тканью его лирики,[79] но тем чаще повторялись и экскурсы (вернее бегство) в область юмора, лишенного злободневности. Стихотворения, подобные «Новеллино»,[80] наполненные драгоценным легкомыслием, как бы взлетают над весомой тяжестью поздней лирики Мандельштама. Это как бы серебряные заградительные аэростаты, пытающиеся защитить страну поэзии от вторжения извне, со стороны вечно враждебной окружающей среды, хаотических будней.
По своей натуре Мандельштам не был оптимистом. Жизнь позаботилась о том, чтобы он им и не стал. Основное настроение его ранней лирики не вполне осознанная, как будто беспричинная печаль. Она развивается в постоянное беспокойство, умело замаскированное сдержанностью тона и ритма. Последние из известных нам стихотворений Мандельштама полны глубокой осознанной скорби.
IV. Ритм — звучание — рифма
В эпоху Мандельштама было много forte и fortissimo. Даже не считая Маяковского и Есенина, поэты, крупные и средние, более или менее популярные, постоянно прибегали к повышению голоса: трубно пророчествовал Волошин, звонко пел Северянин, отрывисто восклицала Цветаева. В поэзии Гумилева часто звучали «команды с капитанского мостика», из интимной негромкости стихов Ахматовой вдруг прорывался крик отчаяния; даже такой мастер тишины, как Блок, в предреволюционные и пореволюционные годы возвысил свой голос, а Пастернак в ранний период своего творчества был преимущественно громогласен. Все торопились, спешили что-то высказать, может быть сначала в бессознательном предчувствии, а потом в сознательном понимании того, что скоро всех принудят к молчанию. У одних это находило выражение в большем объеме, у других в особенно динамическом темпе творчества. В эту эпоху контрастных переходов от шопота к крику или от крика к шопоту, Мандельштам начинает звучную речь, почти без повышения и понижения голоса. Он пишет мало и сохраняет свой особенный медлительный, торжественный темп.