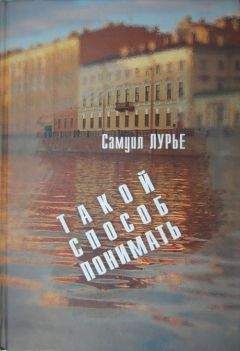Вот он, парадокс Чернышевского. Есть совесть ума, и для своего собственного самосохранения — в сущности, из чистого эгоизма — из циничного, если угодно, расчета — ум вынужден эту интеллектуальную совесть ублаготворять, то есть высказывать ее требования, даже с опасностью для черепной коробки: ум себе дороже.
Ну что же делать, если случайность рождения забросила тебя в историческое прошлое, лет на триста или на тысячу назад, в империю, населенную несчастными, злыми дикарями? Наслаждаться дефицитными прелестями импортной цивилизации — под полицейским надзором и, главное, за чужой счет, ценою бесчисленных жизней? Аристотель умел, и какой-нибудь Цицерон умел, — но ведь они-то жили в своем времени, они-то не знали, что рабы тоже люди, а сверх того полагали глупость вечным двигателем судьбы. А в XIX веке доказано — и лично Чернышевский экспериментом проверил, — что вечный двигатель невозможен и, вероятно, даже глупость не бессмертна и вроде как подчиняется второму закону термодинамики. А овладев знанием, ум ни за что не откажется от него — и требует жертв.
Вот и выходит — чем притворяться рабом, умней бесславно и бессмысленно погибнуть. Потому что есть гордость ума, и потому что одному из пророков недаром сказано: держи лицо твое, как кремень.
Не погибнуть нельзя — на то и полиция, чтобы все в империи были рабы Не бессмысленно тоже нельзя — на то и рабы, чтобы ликовать, когда казнят их непрошеного спасителя. Ну, а что касается славы — какие-то надежды, понятное дело, Чернышевский на историю возлагал.
Хоть и сознавал, что такая отмена крепостного права не приведет к отмене рабства, хоть и предвидел смутно революцию вот именно рабскую, но не предчувствовал за ней опять империю рабов; допускал, и с охотой, что внуки Хорь-и-Калинычей возведут его в святые, — но не верил, что праправнуки низложат.
Почти во всем заблуждался: плохой был философ (хотя, в сущности, изобрел экзистенциализм — и опробовал на себе), никудышный эстетик, неловкий (но не скучный, согласитесь, не скучный) беллетрист, совсем не художник. Но критика и особенно публицистика — и особенно, особенно! — политическая мораль безупречны: понимал отношения вещей, и писал и жил в точности как думал. Отчасти, притом и нехотя, и как бы в волшебном зеркале, Набоков его припоминал в Цинциннате Ц., в «Приглашении на казнь».
Но Цинциннатт, счастливчик, перешел в другое измерение, оставшись молодым, — а Чернышевского с эшафота увезли в Сибирь, и хуже того — в старость.
Тюрьма, каторга, ссылка — для гордого ума ничто. Но старость, и старость в России, да еще без денег и под страхом не за себя — сломает кого угодно. Тлеет, тлеет в человеке безумие — и вдруг нет человека: говорящая головня; бормочет, бормочет, превращаясь в черный прах.
Зато никто уже не скажет: все сплошь рабы.
Взвод, вперед, справа по три, не плачь!
Марш могильный играй, штаб-трубач!
Я близко подошла к гробу и положила Фету на грудь пышную живую розу, с которой его и похоронили.
С. А. ТолстаяНа ум невольно приходит «Отрочество» Л. Толстого:
«Я должен быть не сын моей матери и моего отца, не брат Володи, а несчастный сирота, подкидыш, взятый из милости, говорю я сам себе, и нелепая мысль эта не только доставляет мне какое-то грустное утешение, но даже кажется совершенно правдоподобною».
Этот странный, воображаемый сюжет, омытый сладкими слезами Николеньки Иртеньева, сбылся наяву в судьбе его сверстника Афанасия Шеншина. Четырнадцатилетнему подростку пришлось узнать, что он носит чужое имя, и живет в чужом имении, и напрасно называет отцом мужа своей матери. Подобно осужденному злодею, он вдруг лишился всех прав состояния, нет, горше того — и подданства, и национальности. Отныне был он уже не русский дворянин, а «иностранец Афанасий Фёт», бедный гессен-дармштадтский кукушонок.
Годы, проведенные на скамьях лифляндского пансиона и Московского университета, не остудили обиды и безрассудной мечты вернуться в утраченный мир. Сам Гоголь нашел в желтой тетрадке стихов первокурсника Фета несомненное дарование, но владельцу тетрадки было противно собственное имя и безразлично собственное будущее, он стремился вспять, в ту судьбу, что ему не принадлежала. Фет хотел одного: снова стать Шеншиным.
Наследственное безумие притворилось трезвым расчетом. Поступить в армию, в кавалерийский полк унтер-офицером — только для этого и нужен был Фету университетский аттестат! Весной 1845 года это был кратчайший путь в родословную дворянскую книгу. Первый же обер-офицерский чин давал потомственное дворянство. Петр Великий словно нарочно ради Фета записал в Табели о рангах, что выслужившие обер-офицерский чин — «в вечные времена лучшему старшему дворянству во всяких достоинствах и авантажах равно почтены быть имеют, хотя бы они и низкой породы были». Вольноопределяющемуся действительному студенту производство в корнеты полагалось через полгода, от силы через год. Самое большее через год, вот увидите, он напомнит отцу — то есть мужу матери — его собственные слова о каком-то запросе из департамента герольдии: «Мне дела нет до их выдумок; я кавалерийский офицер и потому потомственный дворянин!»
Отец когда-то служил в уланах. Фет пошел в кирасиры. Спустя два месяца оказалось, что он просчитался, вернее — опоздал. Слишком много времени потерял в университете (злосчастный проваленный экзамен из политической экономии!). Император Николай I задумался о таких, как он или, допустим, как надворный советник Александр Герцен, — и подписал 11 июня 1845 года манифест, согласно коему права потомственного дворянства отныне приносил только штаб-офицерский чин.
Лет на десять затаить дыхание. Ничего другого не оставалось. Так игрок, потерявший в дебюте ферзя, с обреченным упорством продвигает проходную пешку.
В офицерской фуражке Фет похож на Германна из «Пиковой дамы» Пушкина: ожесточенные глаза обращены к фантастической цели; можно подумать, что на совести у человека с таким лицом — по крайней мере три злодейства. Но Мария Лазич уронила на платье горящую спичку нечаянно, и ничего ей Фет никогда, конечно же, не обещал…
Он убил двенадцать лет, чтобы сделаться штаб-офицером — гвардейским штаб-ротмистром. И опять опоздал. По указу императора Александра II от 9 декабря 1856 года для приобретения потомственного дворянства требовался теперь чин полковника. («— Туз выиграл! — сказал Германн, и открыл свою карту. — Дама ваша убита, — сказал ласково Чекалинский».) Фет сдался — запросился в бессрочный отпуск, затем в отставку.
Во второй половине жизни он осуществил другой план — и все отыграл, сам удивляясь: «Судьбе угодно было самым настойчивым и неожиданным образом привести меня не только к обладанию утраченным именем, но и связанным с ним достоянием — до самых изумительных подробностей». А всего-то и пришлось — жениться без любви на некрасивой, невеселой, тоже равнодушной — и превратиться в помещика, и разбогатеть, научившись премудростям сельского хозяйства, да скупить понемногу родовые земли, пережив братьев и сестер. И забыть о стихах навсегда — можно ли было предвидеть, что в старости и они вернутся?
Ничего не жалея, не брезгуя ничем, Фет разменивал жизнь на ассигнации мстительного тщеславия. «Представляю себе, что должен был вынести в жизни этот человек», — произнес император, подписывая 26 декабря 1873 года указ о присоединении отставного гвардии штаб-ротмистра Афанасия Фета к роду отца его Шеншина.
Все сбылось. Фета похоронили в раззолоченном камергерском мундире, а на могильном камне написали: «Афанасий Афанасьевич Шеншин».
Формула личного стиля повторяет, хотя и другими символами, формулу судьбы. Вот человек, который стыдился своей участи, отворачивался от зеркал. В мемуарах тщательно переиначил важнейшие факты. И вот его стихи — в них герой невидим. Безоглядная, болезненная искренность вся уходит в игру иносказаний, чувство обозначено почти всегда лишь инверсией. Стихи как бы проговариваются о какой-то печальной тайне нарочито, чтобы утаить унизительную.
И разве не отражается жизнь Фета в мещанской роскоши его словаря, в нервной рефлексии, разъедающей образ, в механической мелодии, прерываемой рыданьями?
Но как тихо становится в поэзии Фета, когда из хаоса душераздирающих диссонансов вдруг взойдет строка невозможной, неизъяснимой прелести:
И с холодом в груди пустился в дальний путь…
Современники долго считали эту поэзию чересчур мудреной, затем утвердились в мнении, что она попросту глупа. Когда страсти утихли, история литературы отвела Фету боковое место во втором ряду, не слишком вникая в его помраченную общественную репутацию.