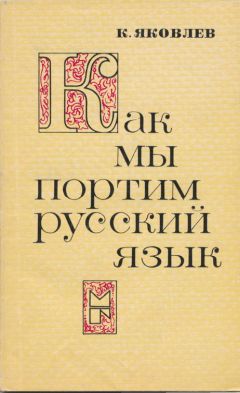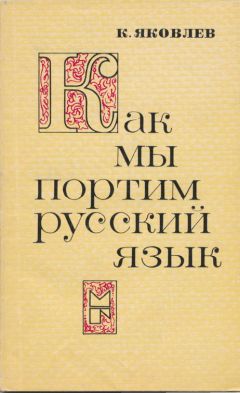Неудивительно, что в литературе не осталось ничего ценного от формалистических изысканий тех, двадцатых годов: они были далеки от народности. Неудивительно, что и моды недавних, шестидесятых годов обветшали довольно скоро; временность, можно сказать, уже смыта идущим временем, лишь иногда отголосками звучит запоздало.
Такие отголоски — и стихотворение «Мастерство», написанное с целью оправдать неряшество, торопливость и трескучие фразы о веке.
Может быть, поэзия вообще более криклива, «громка», и ей надо что–то прощать?
Но вот образец «тихой» прозы — новая повесть, только что написанная. С первой же фразы — «железный девиз: стреляй до последнего патрона, держи курс на двадцать первый век — и вся любовь».
Тема повести — «рабочая», герой — из тех, которые только что закончили десятилетку («с десяткой», они говорят) и не попали в институт, которые все умеют и все знают («в курсе»), которые сами — воплощение совести и всех прочих лучших качеств и того же требуют от других, особенно горячо воюют с неправдой и подлостью.
Все словно бы хорошо.
Не ново, конечно. Наша критика говорила уже о том времени, когда «носителями идеала оказывались как бы исключительно молодые люди, призванные исправить ошибки отцов», когда «молодость стала на какое–то время критерием революционности, гуманизма, совестливости и вообще всех человеческих добродетелей» (А. Макаров). Их много накопилось в нашей «молодой» литературе — таких героев, похожих один на другого.
Автору не откажешь в изобретательности. Он как будто задался целью высмеять все худосочие языка некоторой части людей современного общества — распространённый жаргон, так называемый «молодёжный», и газетные, научные, канцелярские штампы, иностранные слова. Он стремится ввести все это в обстановку необычную для таких слов и выражений — в разговор или мысль о чём–нибудь самом простом — и таким путём как–то «зацепить» читателя, вызвать улыбку.
И верно: стоит литературному герою сказать, что он хочет пообедать в столовой, но «не уверен, будет ли результат оптимальным», читатель заметит напыщенную несуразицу да так–таки и улыбнётся.
Вот автор и «выжимает» из нас улыбку на каждом слове. Герой не просто прибавил шаг, поспешил, а «выжал скорость». Сама дорога у него — «высшего класса». Он и идёт непросто — «держит курс на двадцать первый».
Все у него «максимально», и «капитально», и «оптимально», все «железно», и «могуче», и «страшно»: железный девиз, аргумент железный, сяду железно, позиция железная, платформа железная, железно понял, губы красит по железному графику, кадр железный; программа не из могучих («программа», кстати, — дождаться обеда), вести разговор на могучем уровне, кое-какие могучие идеи изложить; со страшной силой грызу науку, прошляпил со страшным звоном, и дела закипели со страшной силой; капитально усиливает, капитальная идея, вызубрить капитально, обиделся капитально, капитальная трёпка; наиболее оптимально, по самым оптимальным расчётам (расчёт — за сколько времени можно съесть тарелку огурцов); результат максимальной точности и т. д. и т. п. А сверх того — и «первоклассные идеи», и «в темпе управились», и всяческие «ситуации» и «компоненты», и «высшая точка синусоиды»…
Конечно, улыбка тут просится, хотя улыбаться по десятку раз на странице все–таки утомительно и канцелярское остроумие скоро надоедает. А если учесть, что так, играя словами, дурачась, изъясняются все герои подряд — и парень «с десяткой», и токарь, кончивший институт, и кандидат наук директор завода, и мастер, — возникает недоумение: неужели все они, что называется, на одну колодку? Ведь острословие по каждому поводу, игра словами — показатель несерьёзности главного героя. Он словно и не живёт по–настоящему, а как бы играет в жизнь.
Действительно: не попал в институт — пошёл на завод, где работает его дядя. Едва пришёл — с первого дня все само собой идёт ему в руки. Ученик токаря, он похаживает по цеху, знакомится с людьми, которые «шевелят мозгами», и вскоре сам направо и налево раздаёт «капитальные идеи», выступает с починами, а через несколько недель исчезает с завода.
Но неужели и другие не живут всерьёз?
Видимо, так по автору. Герои не показаны, кроме как в речи, и отличаются лишь джинсами фирмы «Луи» и чешскими сандалетами, польским галстуком в коричнево–розовую полоску или кремовой рубашкой с погончиками (тоже, так сказать, «пульс века»!)…
Автор и не старался хоть сколько–нибудь глубоко показать жизнь завода, людей и сам не присутствует в повести: все его полномочия переданы тому «страшно–железному» парню, что «не поладил с приёмной комиссией института». Глазами этого парня, в его восприятии видится (до страшного мало видится) всё то немногое, что попадает на острословный, смешливый язык (а попадают, к несчастью, и многие святые понятия: «героический рабочий класс»; «стреляй до последнего патрона, отступать некуда, позади Москва»; «полковой комиссар»…).
Молодой сочинитель, кажется, чувствует однообразность своих языковых средств. Он вводит слова и других «слоёв»: ваньку валять, засёк, к кассе переться, на реку ладили, ковыряй отсюда пятками, не выгорело дело, не блеск, джинсы оторвал, нервы на взводе, вы сегодня в ударе, цех горячку порол, вредина, в домино подолбать, сбои с курса, жми (иди), кореш, форс давишь, лыбишься, в гробу я видел, дембиль (демобилизация), покеда, пацанва, по модерну, побрякать (позвонить по телефону), киса, полированности (мебель), братья–кролики, пан директор, пан мастер, президент (председатель), лапоть (деревенский парень) и т. д. Но и это «разнообразие» оборачивается утомительным, надоедливым однообразием, идущим от желания поострить во что бы то ни стало, и безнародностью и безобразностью языка.
Нет, автор не высмеивает худосочие современной речи. Во всём подражая моде 10–15–летней давности (в основном — в её «яксеновском» ииде), он обнаруживает собственную худосочную речь, не имеющую ничего общего с языком художественным.
Столь же мало художественности в произведениях (тоже — вторичных, подражательных), исполненных «телеграфно–информационным» стилем, хоть и бесхитростно, в отличие от предыдущей повести:
«Лежу на траве, отдыхаю и греюсь. Толя наверху. А здесь почти нет ветра. Смотрю, как резвятся облака. Принимают разные очертания, кувыркаются. Они похожи на маленьких белых медвежат. Наступает вечер. Мы собираем чернику. На сопках чёрные джунгли. Запускаю совок с густыми зубьями в черничник. Ведро наполняется за десять минут. Глебов уходит сразу, прихватив инструмент. Идем с Толей вдвоем…»
Или:
«Мама увидела самолёт и наконец поняла, что все на самом деле. Ил-18 похож на птицу, а маме кажется, что это хищник, который собирается меня проглотить»;
«Я обнимаю её и тоже плачу, но это внутри. Снаружи я улыбаюсь. Мама почему–то маленькая и беспомощная. Меня захватывает неудержимая волна нежности. Я глажу маму и последний раз целую бледную щеку, солёную от слез»;
«Сегодня я бездельничаю, хожу по городу. Совсем не холодно, всего минус двадцать пять по Цельсию. Город уютный. Дома–коробочки, дома с колоннами. Больше коробочек. Иду к берегу моря. Лед вздыбился. Это от ледоколов. Вокруг ледяной свет, звон, блеск. Ощущение неправдоподобности. Иду к телевышке…»
Трудно, невозможно увидеть в таких описаниях особую, северную природу или далёкий, тоже особый, наверное, город. «Уютный», «дома–коробочки, дома с колоннами» — не особенность ведь! И ни мысли, ни чувства, ни того самого «человековедения», которое составляло всегда главный предмет литературы. Вместо этого — что–то напускное, какое–то непонятное притворство, поза: «Плачу, но это изнутри. Снаружи я улыбаюсь», «Совсем не холодно, всего минус двадцать пять».
И язык соответствует этой неоткровенной, безмысленной и бесчувственной скорописи, которая — словно плохой дневник: наспех набросаны в нём приметы событий, картин «на потом», для себя, чтоб когда–то на досуге попытаться вспомнить по ним сами события, сами картины, людей.
Видимо, не вспомнились они, так и остались неглубокими, туманными и неинтересными памятками для себя.
Таким путём написано уже множество рассказов и повестей (иные так и называются: «повесть в дневниках», «повесть в письмах» или «письма» такого–то) — произведений, не запавших в сердце читателя ни единым из жизни живой взятым народным словечком. В них не видно и родины автора — тех мест, которые давали бы силу авторскому языку и толкали к сравнениям характеров, даже природы (коль обращается он к «экзотике», пусть хоть её показал бы!).
Бывает, пишущий словно нарочно так «растворится» во вселенности, подумаешь — сочинял за него житель другой планеты, глядя на Землю со стороны. Один герой у него: «Лицо смуглое, как у креола, нос с кавказской горбинкой». Другой: «Спит… голубоглазый, с лицом сфинкса, эрудит». Третий: «Смуглое, как у мулата, лицо». Четвертый — «углемазутовый мавр»… У него духота — «словно узаконенная нагрузка к вагонному сервису… единая чаша причастия». У него скопление каменных столбов «походит на исполинский кафедральный орган, на котором музицирует ветер» (и рядом — «готические шпили гранитных столбов»). Он порой в «самом себе» делает «любопытные открытия, целый оазис человеческих драгоценностей».