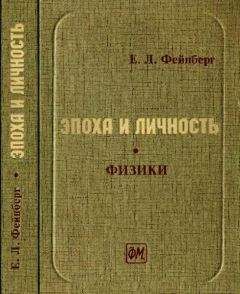В 1930 г. Раману была присуждена Нобелевская премия. Почему же ему одному? Эта несправедливость была воспринята у нас болезненно. Появилось множество версий: антисоветская настроенность Нобелевского комитета и т. п. Вопрос разъяснился через 50 лет, когда, в соответствии с уставом Нобелевского комитета, были опубликованы все относящиеся к делу материалы, до того хранившиеся в секрете.[14] Оказалось, что в 1928 г. наши двое физиков не были выдвинуты никем, а Раман — Нильсом Бором и еще одним физиком. Премию 1929 г. присудили (вполне справедливо) Луи де Бройлю, автору идеи волновых свойств электрона, лежащей в основе шредингеровской квантовой механики. В 1929 г. Рамана назвали не только снова Бор, но и Резерфорд и другие, всего 10 (!) авторитетных физиков. А Ландсберга и Мандельштама (и Рамана!) — О. Д. Хвольсон, наш старейший замечательный физик, почетный академик, автор 5-томного курса физики, переиздававшегося на нескольких языках, в свои 76 лет сумевший понять новую физику (он написал затем о ней прекрасную полупопулярную книгу) и оценить открытие, о котором идет речь, и еще лишь Н. Д. Папалекси, он выдвинул почему-то одного Мандельштама. А несколько других наших видных физиков не выдвинули ни одного из них, но назвали совсем другие имена [7]. Комитет, исходя, видимо, лишь из различия дат посылки рукописей в журнал (8 марта у Рамана и 6 мая у Ландсберга и Мандельштама), решил вопрос просто. Но, конечно, на его решение влияла и разница в числе и в международной значимости имен тех, кто представлял номинантов.
Чего же еще можно было ожидать при таком различии? Но само это различие нелегко понять. Ведь все, представлявшие Рамана, уже знали о «блистательной» работе хотя бы из доклада Ландсберга летом 1928 г. Почему другие наши физики молчали и скромничали в представлении кандидатов (каждый запрашиваемый имеет право назвать несколько работ)?
На первый вопрос ответить просто: нужна была «организаторская работа» среди запрашиваемых комитетом ученых. Увы, мы знаем, что этим интенсивно занимаются некоторые номинанты и теперь. Об этом мне рассказывали и мои западные друзья. Интеллигентнейший (ныне покойный) замечательный итальянский физик Джузеппе Оккиалини сам «выпал» из двух Нобелевских премий, присужденных за работы, в которых он был соавтором. Его резко упрекал за «пассивность» еще один такой же несчастливый участник. Оккиалини рассказывал мне, как «борются» за премию некоторые ученые. Сам он на это был совершенно неспособен по своему характеру и не горевал. И дико было бы ожидать такой «активности» от наших двух московских физиков, с их порядочностью, интеллигентностью, чувством собственного достоинства (разумеется, я ни в коем случае не распространяю рассказанное на всех нобелевских лауреатов, но 10 рекомендаций за Рамана, одна-две за Ландсберга и Мандельштама — слишком уж нелепая, кричащая разница).
А дело прежде всего в том, что Раман не медлил с публикацией своих статей, даже первых трех, в которых совершенно неправильно понимал физическую сущность явления, считая его аналогом комптон-эффекта. Он не мог ждать, пока эти статьи появятся в печати. Так, сообщив о своем наблюдении на заседании Индийского физического общества 16 марта, он на другой же день печатает тысячи экземпляров этого доклада и рассылает их по всему миру. Когда же выходит из печати номер индийского журнала с этим докладом, получает 2000 оттисков и снова посылает их всем сколько-нибудь значительным физикам в разные страны [8]. Он и до этого состоял в переписке с Бором, Резерфордом и другими влиятельными людьми. А 6 декабря 1929 г. он пишет Бору письмо, в котором прямо просит выдвинуть его на Нобелевскую премию [8]. Установлена его связь и с членом Нобелевского комитета Зигбаном [8] и т. д.
Вообще, если Фабелинский опирался на то, чему он сам был свидетель, то авторы важной статьи [8] подробно разбирают западные статьи и открывшиеся через 50-70 лет разнообразные архивные фонды. Они явно видят несправедливость того, что премия присуждена одному Раману. «Он знал, как надо бороться за приоритет», — заключают они.
Труднее объяснить молчание наших физиков, многие из которых могли выставить кандидатами на премию Ландсберга и Мандельштама, но не сделали этого. Вероятно в нашей молодой тогда физике, несмотря на все имеющиеся достижения (а они были), сильно еще было ощущение нашей отсталости, некоторый комплекс неполноценности, из-за которого они недооценили значение этого открытия.
Но сверх всего ведь было простое запаздывание с публикацией в печати, и оно было решающим. Повторим уже сказанное. У зрелого Л. И. было особенно сильно стремление не просто «дойти до самой сути», но достигнуть непреодолимой уверенности в своей правоте. Отсюда откладывание публикации до достижения полной ясности. Отсюда же многократное выписывание фрагментов предстоящей лекции, о котором говорилось в самом начале этого очерка. Как я уже говорил, это, смею думать, можно считать отдаленным следствием допущенных в молодости ошибок и странной самоуверенной развязности в тоне его полемики с Рэлеем, Планком и Брэггами. На человека с такой чувствительной, уязвимой нервной системой, которая была характерна для Л. И. (хотя знали об этом только самые близкие люди; другим он в московские годы неизменно казался спокойным и уверенным в себе), осознание этого своего поведения в молодости должно было значить очень много.
А ко всему этому присоединялись внешние, общественные условия существования того времени, — от нехватки аппаратуры до волнений, забот о «дяде Леве». У Рамана не было таких проблем и он не медлил в своем безудержном стремлении к Нобелевской премии. Совсем другая личность. Не российский интеллигент.
* * *
После открытия комбинационного рассеяния для Мандельштама и его школы, неудержимо расширявшейся за счет все возрастающей тяги к нему, как оказалось, весьма обширных кругов талантливой молодежи, наступили на первый взгляд счастливые времена. По всем направлениям физики, которые его интересовали, работа развивалась, и каждое из этих направлений можно было передавать кому-либо из блестящих учеников. К тому же в 1930 г., как уже говорилось, директором НИИФ и деканом физфака стал заботившийся о Леониде Исааковиче Б. М. Гессен. Его поддержку было не стыдно принимать. Я слушал его лекции по философии естествознания, учась в МГУ, в начале 30-х годов. Они выделялись высоким уровнем и определенностью мысли. Лекции тупых штатных диаматчиков не шли с ними ни в какое сравнение.
Но этот же период характеризуется все возрастающим единовластием Сталина, нарастанием террора и идеологического давления. Именно с 1930 г. Сталина стали называть не иначе как великим вождем всех трудящихся, гениальным, мудрым и т. п. Атмосфера накалялась, и убийство Кирова 1 декабря 1934 г. стало сигналом для начала «большого террора», перед которым меркло все, само себе достаточно ужасное, что было ранее. Чуть ли не в тот же день были приняты изменения в уголовно-процессуальном кодексе, которые невозможно ни забыть, ни недооценить. По делам о террористических организациях, под которые подводился едва ли не любой арест, ныне предписывалось: следствие заканчивать в кратчайший срок в несколько дней; дела разрешалось слушать в отсутствие обвиняемых (такое бывало в России до судебной реформы Александра II); не допускать обжалования или просьбы о помиловании. Приговор о казни приводить в исполнение немедленно. И пошли в газетах списки сотен осужденных и расстрелянных. А сколько было казнено без сообщения о том!
Как было принято в те времена, когда в 1936 г. был арестован Гессен, в университете пошли собрания, на которых сотрудники, в особенности те, кто были близки к нему, должны были каяться в своей потере бдительности (не распознали врага!) и придумывать нелепые «факты» его вредительской деятельности. Мало кто мог сохранить в этой атмосфере страха свое человеческое достоинство (как это сумел сделать, например, Г. С. Ландсберг, см. ниже, с. 242). Мандельштаму, едва ли не единственному, кто не посещал эти шабаши (во всяком случае, я просто не помню его на них; он вообще не любил собраний и заседаний, но здесь, конечно, был особый случай), это видимо, прощалось: слишком велико было уважение к нему, вдохнувшему новую жизнь в ранее хиревшую университетскую науку.
Наступила страшная эпоха. Пошли и другие аресты. Так, исчезли два молодых очень талантливых ученика Л. И. С. П. Шубин (который был также учеником и И. Е. Тамма) и А. А. Витт, который в соавторстве с А. А. Андроновым и С. Э. Хайкиным только что закончил фундаментальный труд, подводящий итог совместным с Л. И. работам по теории колебаний, особенно нелинейных, для которых были развиты новые методы рассмотрения необъятного круга практически важных проблем. В частности, Андроновым было введено понятие «автоколебаний» и т. п. Это был новый прорыв в важнейшем направлении физики. Отсюда и пошла школа Андронова, созданная в Москве и Горьком. Но книгу нельзя было издать с именем «врага народа» Витта на обложке. Однако не издать ее было бы преступлением перед наукой. Пришлось пойти на тяжелую моральную жертву: оставить на ней лишь имена Андронова и Хайкина. Если эти высоконравственные люди и Л. И. пошли на такой шаг (несомненно, для них это была жертва), то это свидетельство того, как эта книга была нужна! После войны она была переведена и издана в США (мне кажется, без ведома авторов), а после смерти Сталина (к тому времени скончался и Андронов) переиздана у нас с восстановленным именем Витта (более чем через 20 лет после первого издания, что само по себе показывает — это классический труд, сохранивший свое значение на долгие времена). Тоже характерный эпизод из истории и нашей эпохи, и школы Мандельштама.