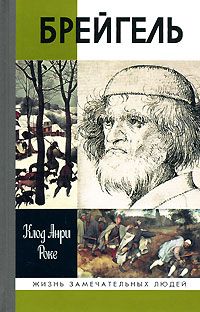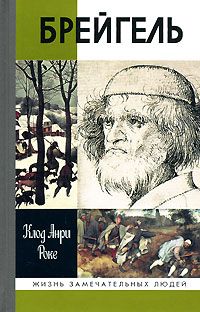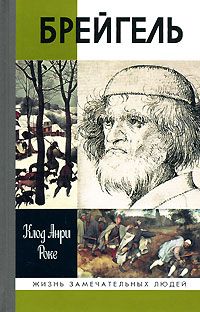Люди, выросшие и сформировавшиеся в условиях, когда тоталитарное государство, олицетворяемое вождем-руководителем, не только «по жизни», но и де-юре являлось безраздельным хозяином всех имеющихся в стране экономических активов, не могли воспринять эти новые группы имущих как легитимных собственников, имеющих право по собственному усмотрению распоряжаться громадными активами и, более того, использовать их для защиты собственных политических интересов. Да и сами они не могли ощущать себя таковыми – как в силу собственного мировоззрения, сформировавшегося в условиях безраздельной монополии советской системы, так и под влиянием враждебного к себе отношения основной массы российского населения, у которой сохранялось стойкое убеждение и представление, что никакого «священного права собственности», существующего до и независимо от государства и его доброй воли, в стране не существует.
Отношение к верховной власти как к единственному легитимному источнику права собственности, особенно на крупные производственные активы, пережило и бурное начало 1990-х, и, тем более, последующие этапы постсоветского периода, когда окрепшая центральная власть стала активно поощрять эти стереотипы, прямо или косвенно внушая, что все иные источники собственности являются формой бандитизма и «кражи собственности у народа».
Это, в свою очередь, порождало и порождает не только психологическую невозможность отделить функции и полномочия власти от функций и полномочий одного-единственного лица, стоящего во главе властной пирамиды, но и приписывание этой фигуре изначально не свойственных ей полномочий и возможностей. Отсюда вытекает еще и фактическое непризнание за любыми альтернативными группами и фигурами в политике права использовать государственные ресурсы для борьбы за власть с доминирующей в политической системе группой. И правящая команда, и общество в целом «по умолчанию» не считали и не считают монополию власти на распределение всех основных ресурсов в государстве противоестественной и недопустимой, тем более преступной. Наоборот, эта монополия освящается традицией, для чего привлекаются многообразные формы «религиозного» и «исторического» характера, и подспудно провозглашается естественной формой организации и функционирования существующей власти. Уже одно это делает крайне сложным создание реально работающей системы властных сдержек и противовесов, имеющей под собой адекватную экономическую основу в виде независимых групп крупных и мелких собственников.
Сюда же уходит своими корнями и отождествление сильной власти с властью, никем и ничем не ограничиваемой. Стремление создать реальное разделение властей воспринималось и продолжает восприниматься в обществе как попытка ослабить государственную власть, сделать ее беспомощной, повязав по рукам и ногам чужой волей. В этом смысле доходящее до крайней черты нынешнее унизительное положение российского парламента во многом является следствием кампании по дискредитации законодательной власти, осуществлявшейся, хотя бы и стихийно, ведущими средствами массовой информации в 1990-е годы. Не стоит забывать, что в те годы журналисты, считавшие себя сторонниками «демократического выбора», с упоением изображали Верховный Совет, а затем Государственную Думу тяжелыми и бесполезными оковами, висевшими на «богатыре» Ельцине и якобы мешавшими ему решительно осуществлять необходимые стране социально-экономические реформы. Да и суды (в той степени, в которой они сохраняли свое какое-то политическое значение) периодически представлялись обществу как досадные препятствия на пути продвижения страны «по пути реформ».
К сожалению, восприятие верховной власти как продукта равновесия различных сил в обществе, компромисса между ними в российской истории было минимизировано. Любой компромисс чаще всего оценивался в большой части общественного мнения как «гнилой», который может и должен быть без тени сожаления нарушен при первой же возможности. В этом смысле можно сказать, что сегодня общество платит высокую цену за стереотипы и предрассудки, в значительной степени являющиеся продуктом российской истории.
Наконец, еще одним фактором, оказавшим влияние на политическую ситуацию в России 1990-х, стала внешняя среда. Я об этом достаточно подробно писал в своей предыдущей книге[8]. Чтобы не повторяться, скажу лишь следующее.
При всех особенностях, при всей инерционности общественного сознания в России в конце 1980-х – начале 1990-х годов существовал сравнительно короткий период, когда разочарование в советских порядках и советском образе жизни было настолько массовым и глубоким, что, на мой взгляд, содержало в себе возможность резкого изменения общественных представлений. Если бы отказ от советских идеологических догм и окончание холодной войны сопровождались бы готовностью бывших противников Советского Союза в этой войне искать пути его включения в существующий миропорядок на условиях, которые воспринимались бы российским политическим классом и большинством граждан как достойные, его отношение к иным устоям власти, отличным от тех, что исторически присутствовали и закрепились в российском общественном сознании, было бы другим. Естественно, само по себе это не гарантировало эволюции российской политической системы по неавторитарной траектории, но было бы весьма весомым камнем на чаше весов последующего исторического выбора.
Однако на практике на Западе возобладало близорукое и эгоцентричное отношение к произошедшим на территории СССР тектоническим сдвигам как к возможности избавиться от своей давней головной боли в виде общепризнанной необходимости проводить сложную и многоплановую политику «сдерживания» СССР. Российскому руководству была немедленно оказана самая высокая протокольная честь в виде признания дипломатической преемственности на всех уровнях. Однако в то же время в связи с потерей реального интереса с точки зрения поиска рациональной модели отношений, как это было с СССР, Россию как страну и общество стали отовсюду отодвигать.
Российский политический класс в своих отношениях с Западом столкнулся с неприкрытым цинизмом в духе «реалполитик», что было пусть не единственным, но весомым фактором, укрепившим его скептическое отношение к либерально-конкурентной модели политического устройства, – фактором, породившим в этом классе убеждение, что имитация присущих такой модели отношений и институтов (разделение властей, выборы, регулярная сменяемость власти) «продается» ничуть не хуже, чем их добросовестное формирование.
Впрочем, это уже связано не столько с недальновидностью или некомпетентностью отдельных политических лидеров, сколько с общим кризисом политического сознания и поведения в последние десятилетия, о котором я подробно написал в своей книге «Реалэкономик. Скрытые причины Великой рецессии (и как предотвратить ее повторение)»[9].
Так или иначе, но под влиянием целого комплекса факторов политическая система постсоветской «новой России» в 1990-е годы сформировалась как система авторитарная, инерционная, малоэффективная и лишенная стимулов к эволюции в сторону альтернативной ей либерально-конкурентной модели.
Если, завершая наше рассмотрение 90-х годов, попытаться кратко суммировать предпосылки и факторы появления и формирования нынешнего периферийного авторитаризма, вытекающие из логики и содержания реформ тех лет, то можно, с некоторой долей условности, выделить три основные группы. Первая из них – это цепочка событий, приведшая к появлению системы, основанной на слиянии власти и собственности: гиперинфляция (конфискация) 1992 года – криминальная приватизация (залоговые аукционы) 1995—1997 гг. – фальсификация выборов и подчинение СМИ 1996—1998 гг. Вторая – большевистские методы ведения реформ: проведение реформ и принятие решений в соответствии с такими догмами, как «цель оправдывает средства», «базис (характер собственности) предопределит надстройку (правовые и гражданские институты) едва ли не автоматически», «первоначальное накопление капитала всегда преступно» и т.п. И третья группа – это отказ от переосмысления советского периода, государственной оценки сталинизма и большевизма, что стало фундаментом кризиса самоидентификации, привело к потере жизненных ориентиров, идеологической эклектике, расцвету «евразийского» невежества и, в конечном счете, невозможности исторически выверено и логично определить свое место в мире. В результате, в конце 90-х годов людей охватило глубокое разочарование, растерянность и чувство, что их жестоко обманули. Усилился процесс поиска ответов на возникшие проблемы в прошлом, в советском периоде. В этих условиях появился Владимир Путин.
Впрочем, как я уже сказал выше, 1990-е годы были лишь периодом формирования и становления системы, когда некоторые ее черты еще не приняли законченных форм, а некоторые – даже не проявились сколько-нибудь заметно. Поэтому не менее важными для судьбы нынешней исторической версии российского авторитаризма являются 2000-е годы, на которых следует остановиться подробнее.