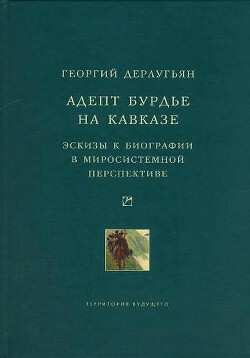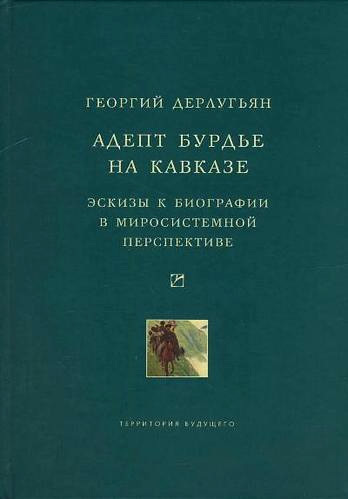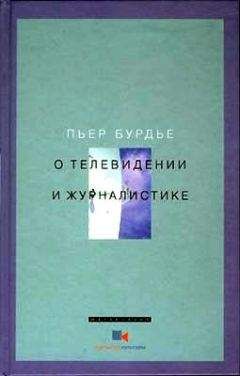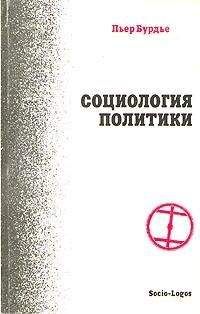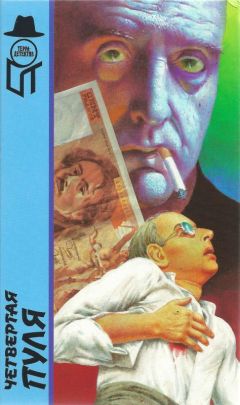По экспертным оценкам, каждой весной примерно 40 тыс. мужчин из Чечено-Ингушетии выезжали на сезонные заработки в Казахстан и Сибирь, где у многих сохранились личные связи еще со времен ссылки. Обычно это была временная работа на строительстве и в сельском хозяйстве, привлекавшая участников возвратной миграции, которые создавали устойчивые артели с четкой внутренней иерархией и земляческие общины, группирующиеся по отраслям экономики и географическим областям. Миграция рабочей силы чеченцев и прочих коренных обитателей горных зон Северного Кавказа основывалась на вековой традиции. В принципе, во все времена и во всех странах горцы, жившие в условиях ограниченных ресурсов своих ландшафтных зон, были вынуждены искать дополнительных приработков в качестве сезонных работников (пастухов, копателей колодцев, сборщиков урожая), военных наемников и охранников («мамелюков» в широком смысле), или традиционных разбойников (коно– и скотокрадов, захватчиков пленников на продажу и за выкуп, грабителей с большой дороги). Заметим, однако, что среди трех ипостасей горца-мигранта о пастухах и батраках гораздо реже говорится в песнях, легендах, и тем более в военных сводках.
Сезонная миграция создавала особую подкультуру, нормы и ритуалы которой в основном относились ко внутренней организации мигрирующих групп. Группы (артели) обычно сплачивались вокруг опытных мужчин, наделенных почти родительской властью и обязанностями. Члены группы формировали своеобразное братство с внутренней градацией в зависимости от старшинства и признания личных достоинств. Традиционные узы кланового родства, сельской общности и религиозной принадлежности сообщали дополнительную прочность внутригрупповым дисциплине и сплоченности. Для понимания чеченской революции и войны важно, что подобные трудовые группы создают многоцелевую и высокоадаптабельную модель микроорганизации, которая в изменившихся обстоятельствах могла быть приспособлена к решению совершенно иных задач – например, создания ячейки националистического движения или отряда боевиков. По моим полевым наблюдениям, наиболее организованные боевые подразделения «артельного» типа в недавних войнах на Кавказе можно было наблюдать не только в Чечне, но и в Нагорном Карабахе, чьи армяне-христиане также горцы и регулярные мигранты. Несмотря на конфессиональные и культурные различия, у воевавших армян прослеживается нечто общее с чеченскими добровольцами первой, еще патриотической войны (1994–1996 гг.). Это не только личный героизм и глубокая убежденность в том, что они воюют за спасение своего народа от повторного геноцида, но также и неожиданно высокая дисциплина, подчинение старшему, четкое и вполне рациональное разделение труда и почти семейная сплоченность в группе. Воевали эти партизаны лучше регулярных армий, во всяком случае, на тактическом уровне и за исключением особо профессиональных спецподразделений. Однако в случае добровольцев профессионализм не мог быть военного происхождения. Это был скорее профессионализм многоцелевых, взаимно дисциплинированных и изобретательных шабашников. Воевали так, как работали, с оружием и техникой обращались, как со своим собственным трудовым инструментом. Было бы интересно изучить в сравнительном плане, в какой мере трудовая миграция и военная служба оказали влияние на характер организации войн и в бывшей Югославии, откуда в прежние времена миллионы мужчин ходили на заработки строителями и автосборочными рабочими в Германию и Скандинавию.
Руководствуясь этими ориентирами, мы можем также найти рациональное объяснение скандально известного взлета чеченской мафии в ходе российской приватизации конца 1980-x – первой половины 1990-х гг. По параметрам социально-демографического состава и культурного капитала, чеченская и другие «южные» этнические мафии мало отличаются от групп, занимающихся обычной трудовой миграцией. Они в основном состоят из молодых, малообразованных и при этом статусно-ориентированных чеченцев, которые в одиночку либо маленькими спаянными группами уезжали из родных деревень в надежде получить хорошую работу или высшее образование. Некоторые, подобно Беслану Гантамирову или Шамилю Басаеву, оказались малопригодными для университета и были исключены; другим так и не удалось найти работу, поскольку традиционные для предыдущих поколений чеченцев рабочие места в строительстве и сельском хозяйстве теперь, с разрушением советской экономики, либо исчезли, либо оказались занятыми работниками из Украины, Молдовы, Таджикистана. Эти молодые чеченцы предпочли постепенному сползанию в прозябание на чужбине или возвращению домой жалкими неудачниками пробить себе путь в опасный, но крайне прибыльный и романтизированный мир «силового предпринимательства». Традиции родственно-клановой солидарности, чеченской маскулинности, подросткового и воинского и ритуализированного насилия («джигитства»), несомненно, сыграли значительную роль в подобном выборе, снабдив их готовым набором необходимых навыков и групповой солидарности, которые предоставили значительное преимущество в криминальном мире [299]. Это лишь самое предварительное эскизное обозначение подхода к проблеме. Потребуется особое исследование для изучения механизмов переноса традиционных социальных институтов и практик с гор Кавказа на беззаконные рынки посткоммунистической России. А пока загадочный чеченский национальный характер продолжает занимать воображение российских и западных журналистов, писателей популярных триллеров, сценаристов и режиссеров телесериалов, а также немалого числа экспертов по этнополи-тологии и культурологии. Но стереотипы как-то совсем не замечают того факта, что Чечня более не является клановым обществом горцев.
Чеченская революция
Только в 1989 г. предпринятая Горбачевым замена брежневского поколения аппаратчиков и общая атмосфера демократизации, наконец, позволили небольшой ущемленной в своем росте элите чеченских административных кадров и образованных горожан пробиться через «стеклянный потолок». Оговорюсь сходу, такого рода заявления неизбежно относительны. Существовала и чеченская номенклатура, и интеллигенция, порою с еще досоветскими корнями. Однако наиболее успешные из них жили за пределами автономной республики. Помимо низкостатусных трудовых мигрантов, немало выпускников чеченских школ подавали документы в вузы за пределами ЧИАССР, пытаясь избежать считавшихся неминуемыми при поступлении в Грозном местного шовинизма и интриг, и сделать карьеру на просторах Советского Союза. Многие из них преуспели и достигли высоких постов за пределами «малой» родины. Среди них доктор наук Саламбек Хаджиев, последний министр нефтяной промышленности СССР, и преподававший экономику в Москве спикер переходного парламента России в 1991–1993 гг. Руслан Хасбулатов, и генерал-майор ВВС Джохар Дудаев. Подобные успешные личности служили ролевыми моделями для соотечественников и достигшими вершин покровителями, отчего они обладали значительным потенциальным влиянием на дела у себя на родине.
Теперь же, в начале 1989 г., чеченец Доку Завгаев, дотоле постепенно выдвигавшийся по линии руководства сельским хозяйством, сменил на посту первого секретаря обкома своего русского и весьма консервативного предшественника, который благоразумно предпочел избраться на союзную депутатскую должность в Москве. В Чечено-Ингушетию, наконец, пришла перестройка. (Прежде местному филиалу Союзпечати было негласно предписано не ввозить в автономную республику популярные перестроечные издания вроде «Огонька» и «Московских новостей».) Вскоре под предлогом небольшой по новым перестроечным меркам волны местных жалоб и протестов Завгаев устроил чистку районного звена, которую в те дни весело называли «весенним листопадом» райкомов [300]. Большинство новых назначенцев принадлежало к коренным национальностям, и при этом было личными клиентами Завгаева. После таких перестановок все на какое-то время, казалось, стихло. Еще весной 1991 г. Завгаев мог с гордостью сказать заезжему московскому репортеру: «Зато поглядите, как мирно и спокойно в нашей Чечено-Ингушетии/»