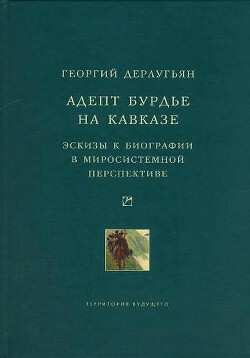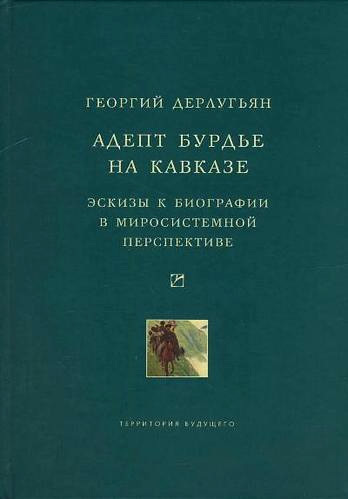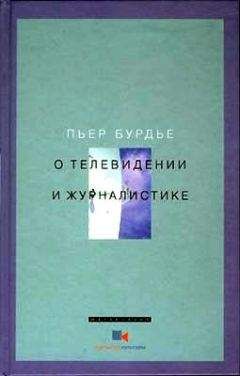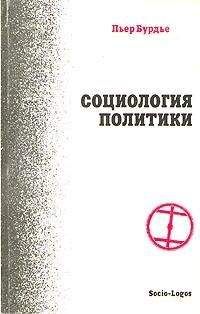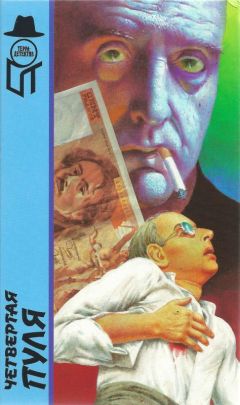Вооруженные силы чеченской революции создавались на разнородной основе групп телохранителей теневых предпринимателей, освобожденных из тюрьмы уголовников, плюс романтических студентов (к которым, как ни крути, относился и Шамиль Басаев, скандально вернувшийся из Москвы на угнанном рейсовом самолете) и жаждущей действий субпролетарской молодежи из пригородов и сел. Вначале довольно спонтанно они собирались под экзотическими знаменами Партии исламского пути, Национальной гвардии, Общества бывших заключенных (Нийсо) и др. Это изначально были и надолго останутся самостоятельные группировки, собранные на основе того или иного социального типажа и разновидности групповой солидарности, подчиняющиеся собственным вожакам. Совместно они выступали в моменты эмоционального возбуждения нации и общей опасности, в остальном действуя совершенно независимо друг от друга, как, впрочем, и самих Дудаева и Шанибова. Разговоры о старинных дедовских схронах и немецких стволах, отыскиваемых в горах «черными археологами», более имеют отношение к романтике, нежели реальности массового самовооружения. Современное, в хорошем состоянии оружие либо похищалось с военных складов, либо, что много вероятнее, приобреталось у подкупленных военнослужащих Советской армии, причем подкуп, очевидно, происходил на всех уровнях, от министерского и генеральского до прапорщиков, имевших ключи от складов, и даже якобы их охранявших рядовых. Более точно сказать что-либо просто смертельно опасно (предпринимавшие расследования журналисты погибали, парламентское расследование родило мышь) и, для наших задач, ни к чему. Результат и без того налицо. Причины следует искать в суммарных последствиях быстрого распада советских командных структур на территории Чечни, общей аморализации и расхитительства периода обрушения советской государственности в сочетании с маскулинными статусными представлениями горских народов и стихийной фрагментацией прежнего классово-национального преимущественно городского общества на этносемейные преимущественно негородские ячейки. В самом деле, оружия в Чечне уже вскоре после развала СССР ходило столько, что на толкучке в Грозном можно было купить ПКМ (пулемет Калашникова модернизированный) или ручной противотанковый гранатомет по цене телевизора. Зрелище подобного рынка и его своеобразный шум (когда потенциальные клиенты на месте опробовали оружие) притягивали в дудаевскую Чечню специфических визитеров едва не со всего бывшего Советского Союза. Перед затуманенным экзотизмом происходящего взором российских журналистов, во множестве приезжавших в мятежную республику, проносились сцены из кавказских рассказов Толстого, тогда как их западные коллеги, в зависимости от личного опыта, регулярно сравнивали чеченцев с корсиканцами и басками либо курдами и пуштунами. Президент Дудаев, риторически превращая зло во благо, пообещал, что независимость и демократия Чечни будет иметь защитой поголовное вооружение своих граждан – как он выразился, «по швейцарской модели демократии».
На практике это означало, что «ичкерийцы» взяли в свои руки защиту своих собственности и жизни. Возникший режим дисперсной власти вовсе не был равен для всех граждан, а благоприятствовал лишь тем, кто в социальном и психологическом отношениях был готов уповать на силу, а также на поддержку родственников и друзей. Чеченская молодежь из сельских и субпролетарских районов находились в гораздо более благоприятном положении, нежели верхние слои городского населения, тем более, русские переселенцы и специалисты. Наглые и жестокие преступления, совершенные в тот период вторгавшимися в город вооруженными чеченцами в отношении не успевших его покинуть русских, имели основой корысть, а не национальную или религиозную нетерпимость и тем более геноцид, о котором в пропагандистском запале писали впоследствии московские националистические публицисты. Русские и даже многие чеченцы-горожане запросто могли пасть добычей тех, кто пожелал завладеть их имуществом или квартирой [310]. В сравнении с ними субпролетарии и сельские чеченские парни имели куда больше автономных от государственности навыков и средств выживания в условиях обвала. Они могли прожить на урожай с приусадебного участка, бартерный обмен, средства от работающих за рубежом родственников или даже мгновенно разбогатеть на прибылях от хищений, захватов и контрабандной торговли (которая оказалась крайне выгодной с отмиранием пограничного контроля в последние годы советской власти). Если сельчане и субпролетарии и так были мало связаны со старым государством и зачастую считали его досадной помехой, то жившие на государственную зарплату, привыкшие к механизмам социального обеспечения и к защите со стороны правоохранительных органов инженеры, учителя и нефтяники попросту не знали, что им теперь делать.
Неудивительно, что одностороннее объявление независимости Чечни привело к исходу не только русских специалистов, но и почти всей чеченской технической и управленческой элиты [311]. Уже в 1992–1993 гг., еще до российского военного вторжения и войны, насчитывалось 200 тыс. горожан, бежавших от беззакония. В то же самое время численность официально зарегистрированных в Москве чеченцев подскочила с трех до более чем девяноста тысяч человек. Большинство из них не могло состоять в чеченской московской мафии – всем им и при желании не хватило бы там ролей и добычи. В большинстве своем это были те самые специалисты-«бюджетники», которым из-за отмирания бюджетного сектора в Чечне оставалось искать заработков где-то в России. Их исход физически убрал из дудаевской Чечни практически всех претендентов на политическую власть – кроме тех, кто смог и вскоре привык прокладывать себе путь оружием.
Трагическая история постсоветской Чечни подводит нас к мысли, что случился худший из всех возможных исходов – революционные потрясения не привели к возникновению нового режима власти какого угодно характера. Артур Стинчкомб дает революциям определение «периодов, когда частота изменений властных позиций между фракциями, социальными группами или вооруженными структурами становится чрезвычайно высокой и происходящие изменения непредсказуемы. Революции завершаются тогда, когда политическая неопределенность существенно понижается путем заключения достаточно твердых договоренностей, которые соблюдаются постольку, поскольку встроены в политическую структуру, способную своей силой обеспечить исполнение договоренностей» [312]. Стинчкомб подытоживает свое теоретическое эссе о том, чем обычно завершаются революции, перечислением шести видов политических структур, способных снизить политическую неопределенность: консервативное авторитарное восстановление (или «Термидор»), независимость, оккупационный режим, тоталитаризм, демократия и, наконец, дробление власти на личные уделы и «вотчины», что в западной политологии обозначается латиноамериканским словечком каудильизм. Чечня после 1991 г. двигалась во всех вышеуказанных направлениях, и ни в одном из них не дошла до конца.
Чечня служит наглядным исключением из общей тенденции консервативной авторитарной реставрации на постсоветском пространстве (включая Кабардино-Балкарию). До августа и даже ноября 1991 г. (провалившейся попытки Ельцина ввести режим чрезвычайного положения) консервативный исход казался наиболее вероятным и в случае Чечни – если бы в завершающей фазе революции силы, которые могли осуществить номенклатурно-олигархическую реставрацию, не оказались дискредитированы и вынуждены бежать из Грозного в свои родные села или в Москву. Провозглашение Дудаевым независимости (второй в списке Стинчкомба вариант исхода) не привело к созданию нового государства, обладающего необходимыми политическими, силовыми и экономическими возможностями. Независимое государство не состоялось, потому что Россия объявила Чечне блокаду, пускай в текущих делах совершенно коррумпированную и пористую. Однако тем самым была предотвращена возможность международного признания независимости Чечни подобно бывшим союзным республикам и исключена возможность поступления зарубежной государственной помощи, кредитов или инвестиций, которые, так или иначе, послужили бы для финансирования дудаевского государства. По той же причине не могли возникнуть ни тоталитарный, ни демократический режимы, поскольку оба исхода, каждый по-своему, нуждаются в наличии эффективно действующих бюрократических учреждений и полиции. Без дисциплинированного и привилегированного корпуса полиции и чиновничества не состоится подлинной диктатуры, но то, что возникнет в остатке, не сможет стать и эффективной демократией. Возникнет, скорее всего, то, что и возникло в дудаевской Ичкерии – фрагментарная вооруженная анархия.