Полностью сбрасывать со счетов богословский аспект проблемы было бы неверно. Оговоримся: речь сегодня идёт не о протестантских церквях, а о «протестантской этике», которая давно является скорее политическим, нежели религиозным феноменом.
Тем не менее отметим, что именно в рамках европейской Реформации возник особый тип европейского миросозерцания, который основан на идее «избранности» одних людей по сравнению с другими. В XVI веке эту идею было принято понимать чисто теологически, как «избранность ко спасению».
В соответствии с ортодоксальным христианством спасение, как известно, есть категория неземной жизни. Однако мерилом «избранности» в рамках протестантской (особенно кальвинистской) этики всё чаще становился материальный «успех» в земном мире. Эта концепция и стала отправной точкой для либерального проекта.
Позднее на этот морально-этический фундамент наслоилась философия Просвещения. Причём в бытовом, нефилософском понимании идея «просвещения» дикарей становилась своеобразной индульгенцией для политики колониальных захватов и шла рука об руку с военно-техническим прогрессом.
Но какие именно ценности цивилизованный мир так стремился «преподать» дикарям в обмен на живой товар, драгоценности, колониальную экзотику и дешёвый труд?
Ценности европейской цивилизации в колониальную эпоху включали в себя либеральные идеи «естественных прав», парламентаризма и «свободной торговли». Причём термин «свобода торговли» понимался порой так широко, что включал в себя сбыт живого товара, «принуждение к рынку», угнетение и унижение туземного населения и т. п.
Таким образом, «естественные права» одних утверждались отнятием прав у других. Свобода европейцев оплачивалась угнетением мировых окраин. Технический арсенал для захватов обеспечивался успехами европейской науки, а жажда прибыли и материального успеха – доктриной «протестантской этики».
В этом русле и шло развитие либерализма вплоть до эпохи «золотого миллиарда». Советский проект породил иллюзию выхода из этого круга и до поры до времени спасал либеральный мир от восстания окраин. Он давал угнетённым призрачную надежду и мнимую возможность выбора. А заодно служил своеобразным громоотводом: либералы всегда были готовы заявить, что ГУЛАГ – это следствие коммунистических идей, а Бухенвальд и Освенцим в лоне либерального общества возникли совершенно случайно.
Вопрос о кровных узах либерализма и фашизма уже был рассмотрен выше. Добавим лишь, что стремление отмежевать «доброкачественный» либерализм от его злокачественных последствий наталкивается не только на исторические, но и на морально-этические контраргументы. Ведь у любого критически мыслящего человека «возникает вопрос: почему “свободная конкуренция” (то есть борьба за выживание) допустима внутри либерального консенсуса, но такая же свободная конкуренция между нациями, классами или социальными системами дурна и непозволительна? В чём принципиальная разница?»[40]
По тому же поводу уже упоминавшийся Макс Хоркхаймер, один из основателей Франкфуртской школы, однажды очень точно сказал: «Тоталитарный режим есть не что иное, как его предшественник, буржуазно-демократический порядок, вдруг потерявший свои украшения».
Сегодня подлинный генезис тоталитаризма перестаёт быть тайной за семью печатями. Вопреки мнению Карла Поппера, писавшего о «закрытости традиционных обществ», и Ханны Арендт с её тезисом о панславистских корнях большевизма, тоталитаризм – продукт западной культуры Нового времени. Это совершенно очевидно.
Теперь мы можем вернуться к главному вопросу: что произошло с представлениями о тоталитаризме в XX веке и почему столь неубедительная теория появилась на свет и стала одним из устойчивых стереотипов массового сознания?
Чтобы замаскировать неудачную родословную тоталитаризма, его защитники всегда были готовы сохранить в списке критериев тоталитарного общества «сильную власть», но затушевать рационализм и дух модернити. Кроме того, они то и дело норовили подменить корпоративный коллективизм фашистского строя общинностью и соборностью русского, православного или – шире – любого традиционного общества. После серии таких подмен теория «двойного тоталитаризма» сделалась удобным политическим орудием, заточенным против любой традиции, в том числе и против европейского христианства, которое, как мы сегодня видим, стало жертвой глобального секулярного проекта.
Скрывать пришлось не только истоки тоталитаризма, но и подлинные причины его расцвета в XX веке. Собственно говоря, феномен германского нацизма адепты теории бинарного тоталитаризма предпочли не исследовать, а, скорее, заклясть, навесив табличку «фашизм». По сути это был негласный интеллектуальный карантин.
Врага желательно знать в лицо. Но европейская рефлексия тоталитаризма пошла кружным путём, далеко уводящим от существа вопроса. Моральное отрицание нацизма и фашизма стало обязательным (что само по себе правильно), а вот их серьёзное научное исследование попало в разряд общественных табу.
По-видимому, это закономерно. Ведь даже при беглом взгляде смысл явления слишком очевиден. Кроме параноидального антисемитизма Гитлер не привнёс в политическую практику западного общества ничего нового. Он лишь поменял контекст – с туземного на внутриевропейский.
Например, касаясь в своих выступлениях «восточного вопроса», Гитлер говорит о том, что восточные территории должны стать для Германии тем же, чем стала Индия для британцев. Аналогичная ситуация сложилась с концлагерями. Впервые их придумали и воплотили англичане в ходе англо-бурской войны. Но если, будучи применена в Южной Африке, эта практика не вызывала особого беспокойства у европейской общественности, то те же методы, применяемые в центре Европы и к европейцам, вызвали настоящий шок. Что допустимо на задворках «свободного мира», то немыслимо в самом «свободном мире».
Один из странных парадоксов этой ситуации заключается в том, что либеральное отторжение гитлеровских колониальных методов в Европе само по себе носило колониалистский характер, поскольку те же самые методы считались чем-то вполне допустимым вне европейской ойкумены. Тот очевидный факт, что режим 1930-х годов в Германии – законный ребёнок европейского либерального империализма, слишком серьёзно ранил европейское самосознание и был отвергнут. Аналогичная история постигла и коммунизм. Оба явления были насильно отселены в теоретическое гетто, отсюда и нежелание лишний раз поднимать проблему.
Сегодня теория «двойного тоталитаризма» не только находится под огнём критики (о чём почему-то стесняются говорить в России), но и испытывает определённые внутренние пертурбации. Поскольку эта теория имеет не научную, а чисто политическую природу, то, как только она попадает в поле открытой публицистики, вокруг неё закипают страсти. Скажем, понятие «нормализация германской истории» всё чаще звучит в ходе дискуссий и уже не считается неприличным, хотя явно несёт в себе неофашистские коннотации[41].
Интересные наблюдения за эволюцией доктрины тоталитаризма можно найти у многих авторов левого направления. Очень показательна статья Александра Тарасова «Ошибка Штирлица. Для чего им “теория тоталитаризма”?». Речь там идёт о дискуссии, получившей отражение в сборнике «Прошлое: российский и немецкий подходы»[42].
А вот мнение Томаса Зайберта, немецкого активиста движения против капиталистической глобализации: «В 1989 году после распада СССР… в Германии начался сильный рост фашистских тенденций. И однажды, когда я сидел дома и читал книжку, я сказал себе: “Ты не можешь просто читать книги в такое время, ты должен опять вернуться на улицы и дать достойный ответ фашистам”»[43].
Как и почему возникает ретроспективная фашизация либерального сознания, уже было сказано. Но важно ещё раз подчеркнуть психологическую мотивацию этого процесса. Испытывая кризис содержания, либерализм формирует негативный тип идентичности. Отделяя от себя свои бывшие составные части, он создаёт убедительный образ врага как во времени (бывший СССР, Германия до 1945 года), так и в пространстве, в лице зависимой части мира («Юг», «другая цивилизация»).
Практика либеральной геополитики также предельно проста. Чужая традиция объявляется не соответствующей «стандартам демократии», то есть социально неполноценной, а потому якобы обречённой на зависимость и бедность. В действительности всё наоборот: бедность есть причина неразвитости социальных и демократических институтов.
Сегодня морально устаревшая теория тоталитаризма удовлетворяет далеко не всех. Либерализм теряет способность объяснять себя.
Возникает вопрос: была ли либеральная система в XX веке с самого начала тоталитарной? Безусловно, была. И потому, что создала инфраструктуру мирового господства, включив в неё советскую «альтернативу» на правах подсистемы. И потому что германская контрсистема, просуществовавшая 12 лет, имела стопроцентно либеральные корни.
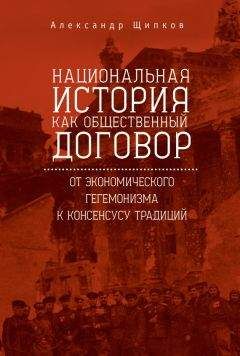
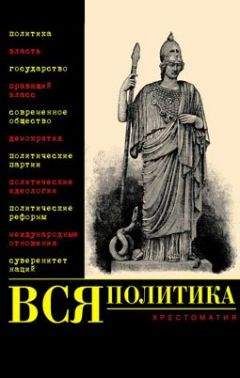
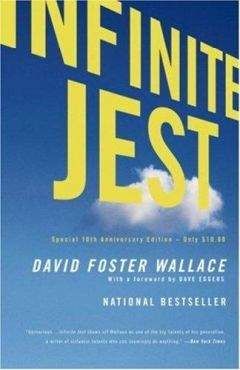

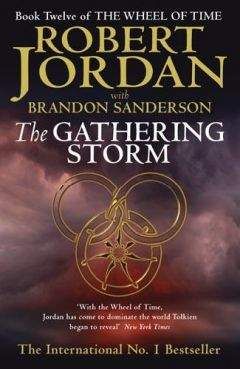
![Rick Page - Make Winning a Habit [с таблицами]](https://cdn.my-library.info/books/no-image.jpg)