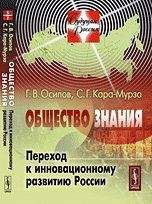Истмат зародился в культуре, имеющей истоком механическую картину мира Ньютона, потому-то все его метафоры и аллегории механистичны, как движение поршня в паровой машине. Как говорят, эта картина мира покоится на «физике бытия». Иная картина мира стала складываться в нашем веке, в ней были учтены те «аномалии», которые исключались из механической картины — необратимости, нелинейности, флуктуации и цепные процессы, самоорганизация. Это — «физика становления». Главный ее интерес направлен на процессы перехода, изменения, катастроф.
Сам Пиранделло тоже понимал эту роль театра. Он писал, что Муссолини — «истинный человек театра, который выступает, как драматург и актер на главной роли, в Театре Веков».
Говоря о «философии эпохи» (в смысле сложившейся в данную эпоху системы знания), Грамши считает, что к ее ядру относится «совокупность всех индивидуальных и выражающих различные тенденции философских теорий плюс научные взгляды, плюс религия, плюс житейский смысл» [99, с. 101].
Гейзенберг отмечает тот факт, что европейская культура подошла к моменту Научной революции, будучи уже воспитанной в языковой среде христианства: «Религиозные образы и символы являются специфическим языком, позволяющим как-то говорить о той угадываемой за феноменами взаимосвязи мирового целого, без которой мы не могли бы выработать никакой этики и никакой шкалы ценностей. Этот язык в принципе заменим, как всякий другой… Однако мы от рождения окружены вполне определенной языковой средой. Она более родственна языку поэзии, чем озабоченному своей точностью языку естественной науки» [93, с. 339].
Этого не произошло, поскольку король дал специальное разрешение Ньютону стать членом Тринити-колледжа, не принимая духовного сана.
Особая тема в философии науки — роль христианского догмата боговоплощения как предпосылки к возникновению научного метода и, конкретно, «волюнтаристской теологии творения» в рождении идеи эксперимента [90].
Реальность обстановки в пуританской Новой Англии самого конца XVII века описана историками в таких выражениях: «К середине 1692 г. процессы над „ведьмами“ получили наибольший размах. Тюрьмы были переполнены, жизнь любого достопочтенного гражданина зависела от тайного или открытого доносчика, „видевшего“ призрак и сообщившего властям об этом. Ничто не могло стать гарантией социальной безопасности. Никто не смел вставать на защиту жертв — самовольных защитников немедленно обвиняли в пособничестве дьявольской силе… Для семнадцатого века — и отнюдь не только для 80-90-х годов — вера в существование ведьм в Новой Англии составляла часть не только религиозных верований, но даже и научных убеждений» [208, с. 165–166.].
Он пишет: «В 1948 г. в Ленинграде состоялся даже конгресс по идеологическим вопросам астрономии, который был призван прояснить дискуссионные проблемы, сблизить мнения и достичь компромисса» [93, с. 337]. На этой конференции присутствовало около 500 ведущих советских астрономов, физиков и философов.
Развитие юридического знания шло рука об руку с религиозным. В Древнем Риме «юридическими» были прежде всего отношения римлян с их богами — они, в отличие от «очеловеченных» греческих богов, воспринимались как абстрактные сущности, партнеры по договору. Римское право было «средством богообщения» и носило сакральный характер. Оно оказало сильное влияние и на католическую церковь, которая придала отношениям человека с Богом юридическую трактовку.
Надо обратить особое внимание на предупреждение Вебера о том, что любая попытка рационализировать религиозное переживание лишает его силы. В политике иррациональность религиозного переживания становится уязвимым местом потому, что его риторика охотно используется реакционными демагогами. Уайтхед писал об этом: «Религиозные интуиции, даже если они исходят из чистейшего источника, всегда подвержены опасности соединиться с низменными страстями и деяниями, которыми охвачено реально существующее общество» [244, с. 414].
В отношении христианства эту проблему тщательно изложил М. Вебер («Протестантская этика и дух капитализма»), а в отношении ислама все приведенное выше утверждение Маркса является очевидно ошибочным.
В этом плане «разъедающая критика религии» в советский период нанесла большой ущерб связности общества. Дело дошло к 80-м годам XX века до явного противостояния интеллигенции массе «простых людей».
В китайской системе знания подобные ситуации разрешаются с эффективным применением методологических принципов, выработанных в религиозной философии. Как ни противоречит реформа Дэн Сяопина принципам маоизма, никому не приходит в голову разрушить на этом основании большой проект модернизации Китая.
Во время перестройки академик С. Шаталин иронизировал над хилиазмом русской революции с ее поиском града Китежа и крестьянским коммунизмом — и как будто не замечал, что сам проповедует поразительно приземленный хилиазм «царства рынка».
Заметим, что с начала 70-х годов антисоветская пропаганда приняла на вооружение эти представления Грамши, в то время как советское обществоведение продолжало их игнорировать.
Список самых высокооплачиваемых менеджеров США в 1992 г. возглавлял исполнительный директор «Хоспитал корпорейшн» Томас С. Фрист с годовым доходом 127 млн долларов.
Что касается всего человечества, то компьютеры имеет менее 5 % населения, подключены к Интернету около 100 млн компьютеров, что соответствует менее чем 2 % населения. В Лондоне пользователей Интернета больше, чем во всей Африке.
Попытка слома этого социального контракта Рейганом с 1981 г. потерпела неудачу из-за рисков, которые она порождала в условиях холодной войны.
Использование Интернета быстро растет во многих развивающихся странах: в период с 1998 по 2000 год оно возросло с 1,7 миллионов пользователей до 9,8 миллионов в Бразилии, с 3,8 миллионов до 16,9 миллионов в Китае и с 2,5 тысяч до 25 тысяч в Уганде [188]. Однако прогнозируется резкое замедление роста числа пользователей по мере приближения к порогу 20 % населения Земли.
Представитель Колумбии уточнил: «В развивающихся странах большинство владельцев компьютеров не используют их в полной мере. Прочее аппаратное обеспечение просто остается в упаковке, поскольку никто не знает, как им пользоваться, а компьютеры часто лежат в разобранном виде, поскольку люди не могут себе позволить отремонтировать их».
Примечательно, что советских социологов науки, в большинстве своем западников, нисколько не смущал тот факт, что поведение русских и советских ученых никак не соответствовало модели Мертона, согласно которой ученый действовал как предприниматель на «рынке знания», получая эквивалентное вознаграждение в виде престижа, библиографических ссылок, званий и т. д.). Будучи уверенными, что существует лишь одна, западная, цивилизация и народы, которые пока что просто отстали в своем развитии, они посчитали, что «тем хуже для фактов».
Строго говоря, во всех культурах, включая Запад, свобода научного познания от «идеологии» является в большой мере иллюзией [124]. К тому же, соглашаясь с тем, что «сон разума рождает чудовищ», мы сегодня никак не можем не видеть, что «сон сердца» (то есть, свобода от моральных ценностей) также допускает их рождение. Но при этом чудовища, вооруженные мощью научного интеллекта, представляют большую угрозу для человечества — уже в силу своих технологических возможностей.
Цитируя это важное утверждение де Кюстина, В. В. Кожинов подчеркивает, что речь идет об тех особенностях России, в которых Кюстин усматривает одну из основ ее уникальной мощи. Актуальностью этих наблюдений Кюстина объясняет В. В. Кожинов и беспрецедентную популярность его книги на Западе. В 1951 г., когда разворачивалась холодная война, книга была издана в США с предисловием директора ЦРУ Б. Смита в котором было сказано, что «книга может быть названа лучшим произведением, когда-либо написанном о Советском Союзе». Эту книгу, кстати, цитировал и Энгельс в своей работе о русской армии.