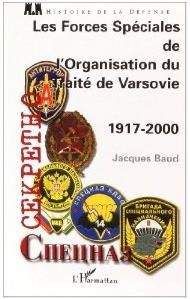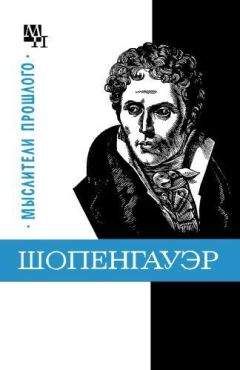Сам Ганди был убежден, что такие средства могут быть применены на Западе так же, как были применены на Востоке. Его собственные, выдающиеся по размаху и результатам усилия были приложены к созданию общественной системы терпения и добровольного страдания в качестве особого метода, или техники, политического действия. Люди, придающие большое значение духовным ценностям, будут ли они следовать методу Ганди или же какому-либо другому, еще не созданному методу, вероятно, волей-неволей придут к подобному решению проблемы. Я думаю, что такие средства духовной борьбы в первую очередь применимы в трех случаях: во-первых, в борьбе нации, подавляемой другой нацией и стремящейся обрести свободу (как в случае самого Ганди); во-вторых, в борьбе народа, стремящегося обрести контроль над государством или сохранить его (это касается непосредственно рассматриваемого нами предмета); в-третьих, в стремлении христиан изменить цивилизацию, сделав ее подлинно христианской, подлинно одухотворенной Евангелием. (Здесь мне хотелось бы заметить, что если бы христиански мыслящие партии, возникшие на политической сцене после Второй мировой войны, обладали более глубоким осознанием того, что люди ожидают от них, то данный аспект проблемы средств — открытие новой техники, сходной с техникой Ганди, — мог бы с самого начала завладеть их мышлением.)
Возвращаясь к рассматриваемой нами теме, мы имеем, на мой взгляд, все основания считать, что перед лицом, с одной стороны, нормального роста (что я так часто отмечал) власти государства и той роли, которую оно с необходимостью играет в достижении социальной справедливости, а с другой стороны, иллюзорного абсолютистского представления государства о самом себе и собственном так называемом суверенитете, которым государство все еще пропитано даже при демократическом устройстве и которое в тенденции делает огромную государственную машину деспотичной и негуманной, — в этой ситуации духовные средства политической борьбы могут дать людям высшее оружие для обретения и удержания контроля не только над правительственными чиновниками, но также и над самой огромной, анонимной государственной машиной. Даже если народ не может разобраться в юридических и административных тонкостях, он все же может противостоять государственной машине в целом открытой мощью своего терпения, страдая во имя неизменно справедливых требований.
V.Проблема средств в регрессивном или варварском обществе
Я рассмотрел вопрос об оружии народа в отношении государства в демократическом обществе. Тот же вопрос теперь следует обсудить для ситуации тоталитарного государства. Но что же тут, собственно, обсуждать?! Тоталитарное государство по своей природе подавляет любые средства, с помощью которых народ мог бы контролировать его или надзирать за ним. Народ не просто лишен каких-либо законных или институциональных средств реального контроля над государством; тоталитарное государство является патерналистским, с его точки зрения народ — это дети, которые не знают, что хорошо для них, и именно государство Обязано сделать их счастливыми. А те средства, которые я назвал средствами органического просвещения, в этом случае полностью находятся во власти государства, равно как и гражданские средства, плоть от плоти, кровь от крови политической борьбы. Что же касается духовных средств политической борьбы, то их можно свести к нулю простым уничтожением тех, кто полагает, что способен использовать эти средства. В самом деле, успехи Ганди были возможны только на основе относительной свободы, дарованной жителям колонии правительством Британии, а также благодаря старой либеральной аристократической традиции и ошибочной циничной вере (как было правильно отмечено[97]) в то, что Ганди можно манипулировать. То, к чему ведет внутренняя логика тоталитарного государства, — это не революция, которая в конце концов дает народу контроль, но полный распад, вызываемый постепенным разложением сознания людей в таком государстве.
Все это верно, но все же не снимает проблему средств, а делает ее более серьезной и трагической. Чтобы сформулировать эту проблему в предельных и ярких понятиях, я хотел бы представить на мгновение наиболее совершенную ситуацию политической регрессии, а именно ситуацию жизни в концентрационном лагере — то, что было названо I'univers concentrationnaire[98]. Например, Бухенвальд был не только бойней, но и обществом, кошмаром общества, где завоевание власти было вопросом жизни и смерти, как это показала беспощадная борьба между зелеными и красными, то есть между уголовными заключенными и политическими узниками.
Человек, вынужденный жить в концентрационном лагере, может выбрать для себя одну из двух противоположных позиций: первая из них сомнительна, а вторая просто дурна. Он может отказаться примкнуть к какой-либо "политической" деятельности, поскольку используемые в ней средства несовместимы с моральными нормами — это шпионаж, обман, предательство, сотрудничество с угнетателями и палачами, не говоря уже об издевательствах над соседями-заключенными и о прямом или косвенном убийстве. Или же, наоборот, он может оставить в стороне моральный закон и использовать любые нечестные средства, чтобы уничтожить худших из палачей, чтобы спасти хотя бы некоторых из узников или сделать что-либо для подготовки мятежа. Первая позиция предполагает, что человек поставлен в ситуацию "краха политики" и что единственная приемлемая для него деятельность — это евангельская практика самоочищения, самопожертвования и братской любви. Я не отрицаю, что такая позиция оправданна, по крайней мере с учетом возможных обстоятельств или высшего призвания некоторых индивидов. Тем не менее я полагаю, что даже в концентрационном мире для людей невозможно вообще отказаться от любого вида политической деятельности.
Вторая позиция предполагает, что цель оправдывает средства и что Бога не существует. Вот как описал в заслуживающей большого внимания книге свой опыт пребывания в немецких концентрационных лагерях французский писатель Давид Руссе: "У тебя не может быть моральных принципов, играющих роль арбитра, отделяющего друг от друга дурные и хорошие средства, если ты рассматриваешь эти принципы вне их исторической и социальной относительности и, следовательно, ищешь для них основания вне человеческой природы, то есть, желаешь того или нет, в Боге"[99]. Следует добавить, что тому, кто принимает данную позицию, ничего не остается, кроме как в конце концов самому разложиться, полностью приспосабливаясь к разложившемуся окружению.
Итак, первая позиция неразумна в качестве некой нормы, вторая же ошибочна сама по себе. Где же тогда ответ? Этот ответ ставит нас перед лицом самой трудной проблемы в моральной жизни и сталкивает с ток печальной закономерностью, на которую я уже указывал и согласно которой применение моральных норм, самих по себе неизменных, принимает все более и более низкие формы по мере деградации социальной среды. Моральный закон нельзя отбрасывать никогда; мы должны придерживаться его тем более твердо, чем более разложившимся и преступным становится социальное или политическое окружение. Но моральная природа или моральная спецификация, моральный объект тех же самых физических действий изменяются, когда ситуация, к которой они относятся, становится настолько иной, что внутреннее отношение воли к содеянному поступку само становится принципиально иным. В нашем цивилизованном обществе для воина убить солдата вражеской армии в справедливой войне считается вовсе не убийством, а достойным награды подвигом. В совершенно варварских обществах, подобных концентрационному лагерю, или даже в более частных ситуациях вроде подпольного сопротивления в оккупированной стране многие вещи, которые по своей моральной природе объективно в обычной цивилизованной жизни являются обманом, убийством или вероломством, уже не подпадают под такие определения и становятся по своей моральной природе объективно допустимыми или этичными вещами. Однако добрые и злые поступки по-прежнему существуют, существуют всегда; не всякое средство допустимо, по-прежнему верно и верно всегда, что цель не оправдывает средства; моральные принципы по-прежнему подразделяют и будут разделять дурные и хорошие средства, но сама граница между ними смещается. Именно совесть, совесть, применяющая моральные принципы — причем не абстрактные принципы, помещенные на платоновские небеса или в свод законов, — является реальным арбитром. Ни один писаный моральный кодекс, следовательно, не поможет человеку. В сумраке ночи, полной ловушек, именно совесть человека, его разум и нравственная добродетель в каждом особом случае выносят правильное моральное суждение. В годы Второй мировой войны и европейского движения Сопротивления многие монастыри стали типографиями по изготовлению фальшивых документов. Монахи ясно осознавали, что такое производство является обманом физически, но не морально. В Бухенвальде не только те, кто считал, что цель оправдывает средства, но и христиане, подобно Эжену Когону и его друзьям, не без определенного успеха предпринимали тайные действия с тем, чтобы избежать жестокости со стороны своих надсмотрщиков[100]. В такой подпольной деятельности совесть, осознание морального закона должны были отделять допустимые действия от недопустимых в ситуациях, немыслимых для цивилизованной жизни.