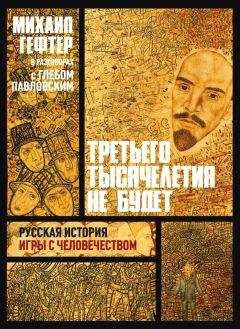Ознакомительная версия.
В начале 1930-х – страшная человеческая перетасовка, именуемая сплошной коллективизацией… Но к тому же порогу человеческий талант, поэтический гений в литературе достигают высот, освоив свершившееся в людских судьбах после революции. Что же, они заодно – коллективизация и Эйзенштейн? Сталин и воронежский Мандельштам? Ягода и Андрей Платонов? Странный расцвет советского кино того времени сопоставим со взрывом итальянского неореализма, а литература – с пришествием латиноамериканского романа.
Асинхронный, глубоко не-единый процесс Тридцатых. В судьбах и людях будто бы рядом идут два процесса: нарастающая индивидуализация – и агрессивное усреднение. Забылось, как усреднение нарастало. Интереснейшие эпизоды возникали! После долгого пребывания за границей возвращается в СССР Эйзенштейн, автор потрясшего мир «Броненосца “Потемкин”». С удивлением обнаруживает новое советское кино, где уже не восставшая масса, не толпа выступает творящим себя героем, но вдруг появились одиночки, индивидуальности. «Подруги» Арнштама или «Чапаев» Васильева. И сам я в мои университетские годы принадлежу к счастливому срезу студенческой жизни. Мы были все очень родственны, очень близки: выходцы из средних школ, в большинстве с аттестатами отличников – и все очень индивидуализированы. Это ничуть не мешало, это нам помогало. И эти индивидуальности, для вас якобы на одно лицо, – погибли в два считаных дня, когда наша ополченческая дивизия попала на острие немецкого танкового клина. Вот судьба молодых интеллигентов.
Вот замечательный, мой любимый рассказ Шукшина, рассказ-притча. Лето, колхоз, страда уборочная. Председатель колхоза, пожилых лет человек, не спит, а на улице горланят песни: молодежь гуляет, второй, третий час ночи – завтра же на работу! И дочка неприкаянная, не нашедшая себя… Вот он выходит на улицу, чтоб урезонить их, разослать по домам. Возвращаясь, ложится в кровать рядом с женой, как вдруг – видение ему, воспоминание детства, когда отец взял их с младшим братиком в ночное, пасти лошадей. Кони, ночное небо, братик внезапно заболевает – то ли скарлатина накатилась, то ли ложный круп. Он хрипит, синеет, и отец говорит мальцу – на лошадь, скачи за врачом! А брат умирает, но в памяти у него – эта ночь и он сам, скачущий на коне! И вдруг он себе признается: ничего в моей жизни, кроме этого, не было – ни-че-го. Там я был вольный, свободный, птицей мчащийся на коне! А после сказали: жениться надо – я женился. Надо служить в армии, родину защищать – я служил. Надо было – пришел восстанавливать колхоз. И вся жизнь из одних «надо» и «должен», а в памяти – только та ночь!
Вот я о чем: этих людей окружающее усредняло с нарастающей силой, – и не усреднило, не смогло! Оказалось неспособным усреднить до степени, когда бы утратилась, хоть в памяти, их индивидуальность. Поэтому, когда при мне говорят: «Есть такое выражение: тоталитарная личность», для меня это просто глупость или ложь. Какая может быть «тоталитарная личность», пока она личность?
Был остаток недовытаптываемой индивидуальности. В рамках тоталитаризма, который, несмотря на усилия, при смертях, им несомых, им втесняемых идей, не смог всех свести к одному. Не имея этот феномен в виду, не объясните войну. Не объясните 1941-й, 1942-й с «Василием Теркиным» – странной поэмой, которая была на устах миллионов солдат, но где нет ни одного упоминания партии. Кроме единственной иронической фразы командира дивизии: «Твой цека и твой Калинин» – как это объяснить?
Ведь вот какая вещь: говоря, я пытался войти в корень этого моего «метапоколения». В его отношение к истории, которой, думали мы, Сталин руководит, Сталин ведет. А оказалось, наоборот – это история Сталиным распорядилась, подобрав соответствующий персонаж. Но что происходит далее с поприщем ненасытной всеприсутствующей истории? Она начинает распоряжаться любыми помыслами, любыми человеческими судьбами. Люди вроде бы действуют, но в конце тяжкой коллизии, где могилы, кровь, война, – возникает то, что Герцен замечательно назвал простором отсутствия.
Тут подхожу к самому существенному. Разные родословной и происхождением режимы Гитлера и Сталина, отличные во многих отношениях, шли навстречу друг другу. Уничтожением людей? Да. Но еще и покушением на индивидуальную смерть человека. Дело дошло до точки, где человек остался один и наедине с собой принимал решения о своей судьбе, как в 1941-м, когда рушилось все. Этот человек отстоял не только жизнь – он отстоял и смерть.
Вот почему тоталитаризм не бывает стопроцентным, а существование фашистов не ведет человеческую ситуацию к фашизму. Есть резерв духовных свойств человека, который, даже не помышляя о том, что делает, – защищает и жизнь, и смерть. Отстаивает их, возвращает в человеческое бытие, в повседневность. И это не вчерашнего дня проблема. Она еще постучится в нашу дверь, заставляя задуматься о судьбе того «метапоколения», о котором я веду речь.
История никогда не была ровной. Каждый день ее и год состоит из обрывов, из гамлетовых безвремений, которые ставят на острие шпаги их перевод в междувременье. А когда выясняется, что не удалось, на месте плотного, насыщенного поля истории вдруг развертывается мертвящий простор отсутствия. Тогда любое может стать «целью», тогда на авансцену выходят люди, способные все превратить в квазицель. Переизбыток «исторического», максимально уплотненный во времени, вдруг обваливается в безвременье – причем такое, которое не в силах перейти в междувременье. Застряли!
Что же остается тогда? Многое. И обыкновенное человеческое бытие – великое обыкновенное. И великие «малые» дела. И еще остается память, которую надо сберечь в себе. У Брэдбери есть новелла: человек высаживается на Марсе и видит мертвые города – останки изощренной, умной, погубившей себя цивилизации. Вдруг он сталкивается с марсианином, чудом оставшимся здесь, и спрашивает – как это с вами приключилось, куда все ушли? А марсианин ему: взгляни, там жизнь! Эти города сияют огнями, они полны людей! Марсианин спускается в долину, где все полно продолжающейся жизнью. В то время как встреченный им землянин не видит ничего, кроме мертвых руин.
Считайте, что я марсианин.
Часть 1. Революция и ее остановка
1. Революция глазами марсиан. Причина революции – незаданный Мир. Подрыв заданности
– Представим себя марсианами, которые очутились на Земле и узнали, что с людьми тут случается нечто, что те называют революцией. Что такое революция, марсиане не знают; думаю, и мы знаем не вполне. И второе допущение: предположим, ее не стало – революция безвозвратно ушла. Мы вспоминаем о ней и не можем решить, что с этим воспоминанием делать. Оно нас мучает, а мы не понимаем чем. Как у Пастернака во вступлении к «905-му году»: «Это было при нас, это с нами вошло в поговорку. И уйдет. Стерся след; были – нет, от нее не осталось примет». Какая странная вещь: мы есть – те, с кем революции вошли в поговорку, а того, с чем вошли мы, нет и следа. «Были – нет». Провал памяти и провал времени.
– Мы на краю?[2]
– Да, и здесь опасно. Мы давно на краю. Обживать край трудно, есть желание отодвинуться, но и оно опасно – без прошлого на краю. Сразу поставим себе вопрос: революция – это что? Это бывает всегда, со всеми? Или это однажды началось? Когда-то возникло и возвращается время от времени. Но ведь и состояние «время от времени» в истории тоже возникло однажды. По нынешним представлениям о длительности существования человека явление нашего предка позднее, достаточно близкое к нам. Время человека само когда-то возникло. Из чего?
Революция что-то человеческое останавливает, разрушает и нечто пытается воздвигнуть на месте разрушаемого. И мы хотим заглянуть туда, в глубину, насколько позволяет взгляд, – откуда это началось в человеке?
– И неизбежно ли?
– И неизбежно ли. Но при выяснении приходим к мысли, что люди вообще, мы все в гигантской степени заданы. Чем? Да всем. Мы заданы предками, родителями, детством, школой, обстоятельствами. Остался совсем небольшой зазор, где мы не заданы. Петр Чаадаев сказал когда-то, что Бог-Промыслитель уступил людям время. Время, вот зазор. А человек – странное существо, пытается раздвигать зазорчик все дальше и дальше. Человек сражается с заданностью.
– И безобразничает при этом?
– Да, человек – странное существо. Все его первомоменты заложены. Вот человеческий детеныш. Он единственный в своем роде, который много лет живет при родителях, – мир живого такого не знает. Этого детеныша можно выучить математике или чему-то еще высшему на ранних возрастных ступенях. А как быть дальше? Остается долгий промежуток времени, и он должен быть заполнен. Раньше человека долго готовили к следующей деятельности. Но теперь и приготовить нельзя, и времени на это нужно меньше. Однако выясняется, что детство – это целая жизнь. Она должна быть прожита человеком, чтобы он смог полноценно, свободно, не безобразно жить еще одной, второй жизнью. А там подоспеет и третья.
Ознакомительная версия.