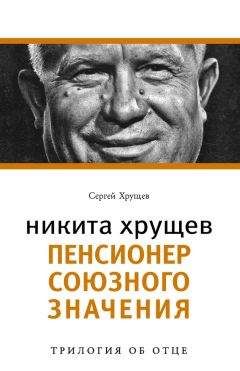Письмо Фурера было посвящено главным образом реабилитации Лившица. Видимо, этот документ сохранился в архиве. Автор очень расхваливал Лившица, что это честный человек, твердо стоит на партийных позициях, он не троцкист. Одним словом, в вежливой форме, не оскорбительной (потому что Сталину пишет) он хотел подействовать на Сталина, чтобы тот изменил свою точку зрения и прекратил массовые аресты. Фурер считал, что арестовывают честных людей. Автор заканчивал тем, что решается на самоубийство, так как не может примириться с арестами и казнями невинных людей. О Сталине он говорил там тепло. Вообще в письме он давал всем членам Политбюро довольно-таки лестную характеристику. Я привез это письмо Кагановичу. Каганович зачитал его при мне вслух. Он плакал, просто рыдал, читая. Прочел и долго не мог успокоиться. Как это так, Фурер застрелился? Видимо, он действительно очень уважал Фурера. Тут же Каганович сказал мне: «Вы напишите маленькое письмецо Сталину и разошлите его всем членам Политбюро». Я так и сделал. Несмотря на то, что при самоубийствах партийные организации отстранялись от похорон, Фурера хоронили именно мы, партийная организация, то есть Московский комитет.
Прошло какое-то время, приближалась осень. Сталин возвратился из отпуска в Москву. Меня вызвали к нему. Я пришел, совершенно ни о чем не подозревая. Сталин сказал: «Фурер застрелился, этот негодный человек». Я был поражен и огорошен, потому что считал, что Каганович в какой-то степени отражал оценку Сталина. Каганович буквально ревел навзрыд при чтении письма, и вдруг – такой оборот. «Он взял на себя смелость давать характеристики членам Политбюро, написал всякие лестные слова в адрес членов Политбюро. Это ведь он маскировался. Он троцкист и единомышленник Лившица. Я вас вызвал, чтобы сказать об этом. Он нечестный человек, и жалеть о нем не следует». Я очень переживал потом, что оказался глупцом, поверил ему и считал, что это искреннее письмо, что человек исповедался перед смертью. Он не сказал ничего плохого о партии, о ее руководстве, а написал только, что Лившиц и другие, кого он знал, – честные люди. Он своей смертью хотел приковать внимание партии к фактам гибели честных и преданных людей. Для меня это было большим ударом. Каганович же позднее не возвращался при разговорах к Фуреру. Фурер был стерт из памяти. Каганович, видимо, просто боялся, что я мог как-то проговориться Сталину, как он плакал. Собственно говоря, он-то мне и подсказал разослать тот документ членам Политбюро и Сталину.
Теперь скажу несколько слов об открытых процессах над Рыковым, Бухариным, Ягодой, Зиновьевым, Каменевым[176]. Они сохранились в моей памяти крайне нетвердо. Я на этих заседаниях бывал всего раз или два. Один из процессов проходил в небольшом зале Дома союзов. Обвинителем был прокурор Вышинский[177]. Не знаю, кто конкретно были защитниками, но они имелись. Там находились и представители братских партий и даже, кажется, представители прессы буржуазных стран, но не утверждаю. Да это для моих воспоминаний и не столь важно, потому что все это было описано и в нашей печати, и в зарубежной. Я слушал допросы обвиняемых, был поражен и возмущен, что такие крупные люди, вожди, члены Политбюро, большевики с дореволюционным стажем, оказались связаны с иностранными разведками и позволяли себе действовать во вред нашему государству. Я хочу рассказать, как сам я воспринимал признания обвиняемых в то время. Когда Ягоду обвиняли в том, что он предпринимал шаги, чтобы Максима Горького поскорее привести к смерти, доводы были такие: Горький любил сидеть у костра, приезжал к Ягоде, и тот приезжал к Горькому, поскольку они дружили. Ягода разводил большие костры с целью простудить Горького, тем самым вызвать заболевание и укоротить его жизнь. Это было немного непонятно для меня. Я тоже люблю костры и вообще не знаю таких, кто их не любит. Здоровый человек просто сам регулирует костер. Горького ведь нельзя привязать к костру и поджаривать. Говорилось, что добились смерти Максима Пешкова, сына Горького, а потом и Горький умер, а Ягода играл здесь какую-то роль.
Мне по существу дела трудно было что-либо сказать. Я лишь жалел о смерти Горького и воспринимал приводимый довод несколько критически. Ягода же соглашался, что он преследовал такую цель, разжигая сильные костры. Помню, как прокурор задал Ягоде вопрос: «В каких отношениях были вы с женою сына Горького?» Ягода спокойно ответил: «Я попросил бы таких вопросов не задавать и не хотел бы трепать имя этой женщины». Прокурор не настаивал на ответе, после чего с этим вопросом было покончено.
Ясно, чем завершились все эти процессы, – страшными приговорами. Все эти люди были казнены, были уничтожены как враги народа. Так они и остались доныне врагами народа. Остались потому, что уже после XX съезда партии мы реабилитировали почти всех невинных, но тех, кто проходил по открытым процессам, мы не реабилитировали, но не потому, что существовали доказательства вины. Тут имелись соображения другого характера. Мы спрашивали тогда прокурора: «Были ли реальные доказательства их вины для суда?» Никаких доказательств нет! А судя по тем материалам, которые фигурировали в деле этих людей, собственно говоря, они не заслуживали не только обвинения, но даже ареста. Прокурор Руденко так и докладывал членам Президиума ЦК партии в 50-е годы.
Почему же их тогда не реабилитировали? Лишь потому, что после XX съезда партии, когда мы реабилитировали многих несправедливо арестованных, на это бурно реагировали люди и внутри нашей страны, и за границей. Руководители братских компартий были обеспокоены, потому что это событие потрясло их партии. Особенно бурно проходили эти процессы в итальянской и французской компартиях. На тех судебных процессах, по-моему, присутствовали Морис Торез, Пальмиро Тольятти[178] и другие руководители компартий. Они сами слышали, сами видели, сами, как говорится, «щупали» и были абсолютно уверены в основательности обвинений. Обвиняемые признали себя виновными. Дело было доказано, и они возвратились к себе домой убежденными, хотя тогда на Западе, да и в Советском Союзе, эти процессы очень бурно обсуждались. Наши враги использовали их в агитации против компартий, против нашей идеологии, против нашей советской системы. Компартии защищались, доказывали нашу правоту, основательность этих процессов, писали, что все обосновано, все доказано фактами и признаниями самих подсудимых.
К нам обратились Тольятти (итальянская компартия) и Торез (французская компартия) с заявлением, что если будут реабилитированы и обвиняемые на тех процессах, которые проводились открыто, то создадутся невероятные условия для братских компартий, особенно для тех, представители которых присутствовали в зале заседаний. Как очевидцы они потом докладывали своим партиям и доказывали, что процессы были проведены на основе твердых доказательств и юридически обоснованы. Мы договорились, что сейчас не будем их реабилитировать, но подготовим все необходимое для этого. Пусть даст заключение прокурор, и мы вынесем закрытое решение, что эти люди тоже являлись жертвами произвола. Мы не опубликовали свое решение по тем соображениям, которые я уже излагал, взяли, как говорится, грех на душу в интересах нашей партии, нашей идеологии, нашего общего рабочего дела. Ведь тех не вернешь к жизни! Мы не хотели фактом признания несостоятельности этих процессов вооружить своих врагов против братских компартий, против таких их руководителей, как Морис Торез, Пальмиро Тольятти и других, которые душой и телом преданы рабочему делу, настоящие марксисты-ленинцы.
Троцким и вопросом о его гибели мы не занимались. Мы не поднимали занавеса и даже не хотели этого. Мы вели с Троцким идеологическую борьбу, осудили его, были и остались противниками его идеологии, его концепции. Он нанес немалый вред революционному движению, а тем более и погиб не на территории СССР, погиб без суда и следствия.
В 1940 году наш агент подследил и убил его, кажется, в Мексике. За это агента наградили орденом. Поэтому мы данной стороны дела не касались.
Я говорю здесь только о зиновьевцах, бухаринцах, рыковцах, о Ломинадзе и других. Ломинадзе кончил жизнь самоубийством. Огромное количество людей с дореволюционным партстажем тогда погибло, почти все партийное руководство. Мне могут сказать: «Что ты, мол, говоришь, что взяли грех на душу и не опубликовали того факта, что открытые процессы тоже были несостоятельными, потому что в материалах не было доказательств? А как вообще обстояло дело с ними?» Считаю, что борьба с ними была правильной, потому что имелись идеологические расхождения, существовали разные точки зрения насчет практики строительства социализма, расхождения с зиновьевцами и с «правыми». Полагаю, что мы, то есть ЦК партии и Сталин, который был нашим вождем, вели борьбу правильно и что проводилась она партийными методами, путем дискуссий, путем обсуждения вопроса, голосованием в партийных организациях. Тут мы пользовались именно партийными, ленинскими методами. Может быть, и с той, и с другой стороны были допущены какие-то неточности и перегибы, это я допускаю. Но в основном борьба велась правильно и на демократической основе. А вот судить их не было нужды, да и не за что. Тут был прямой произвол, злоупотребление властью. Все это подтверждало предположение Ленина, что Сталин способен злоупотребить властью и поэтому нельзя держать его на посту генерального секретаря. Это доказало правоту Ленина, верность предвидения Ленина.