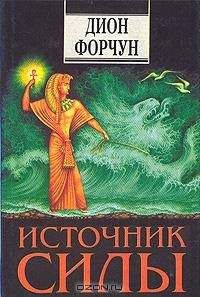— Политичка, Вася, политичка! Вон видишь этот забор? Там за ним еще один, дальше проволока, а дальше — больничка. Туда-то ты и шел. Дуй, не теряй времени!
— Слушай, ну ее — ту больничку! Давай с тобой, а? Это у вас что? Сарай? Красота!
— Вася, милый, я замужем.
— Ну и что?!
— А то, что мужу не изменяю.
— Ты что?! У тебя какой срок?
— Семь плюс пять ссылки.
— Ну даешь! Да ты верующая, что ль?
— Верующая.
Это объяснение всегда действует безотказно и, главное, доходчиво. Всех остальных моих мотивов Вася попросту не поймет.
— А за что сидишь?
— За стихи.
— Это как? Сама, что ль, сочиняешь?
— Сама.
— Врешь?! А почитай.
— Вася, у твоего мента часики тикают, пока мы с тобой о высоких материях рассуждаем.
— Фиг с ними, пускай тикают. Сроду политичек не видел. Много вас тут?
— Сейчас пятеро, а вообще одиннадцать.
— А другие за что сидят?
— Кто за веру, кто за правозащитную деятельность, кто просто эмигрировать хотел.
— Ну и как вам сидится?
— По ШИЗО в основном.
— Ого! Это за что же? Деретесь?
— Бастуем иногда. Вот нагрудные знаки не носим. А большей частью КГБ над нами упражняется.
— Своих, значит, не закладываете?
— Соображаешь.
— Ну и правильно. Своих закладывать — за падло. Так почитай стихи, а?
— Вася, жалко мне твоих трехсот рублей. Топай на больничку, а останется время — вернешься, тогда поговорим.
— А ты, может, из ваших кого позовешь? У вас тут что, все верующие?
— Не все, Вася, но здесь тебе дела не будет. Уж я-то знаю.
Его убеждает не столько аргументация, сколько моя улыбка: он понимает, что дела, действительно, не будет.
— Ладно, Ириша, я поконал. Я еще приду. У вас тут никто не стучит?
— Есть одна, но сейчас она не в зоне. Из здешних никого не бойся. Но вот если охрана тебя в нашей зоне найдет — не откупишься. Здесь КГБ замешан, так что рискуешь.
— Меня сроду не заметут.
— А сел-то как?
Оба смеемся, и он перемахивает через нужный забор. В доме я о Васе, конечно, не говорю, знаю, что подслушка не дремлет. Интересно, кто он? Вор? Растратчик? Убийца? Кто бы ни был, а соскучился по человеческому разговору. Сижу за машинкой, шью. Стихи сегодня не идут, и я строчу «вхолостую». Пани Ядвига штопает старую лейку — опять протекает. Умение штопать посуду у нас еще от наших «бабушек»: запаять нечем, так они придумали забивать отверстие нитками. Игла с ниткой пропихивается туда-сюда, потом она лезет уже с трудом, потом приходится протягивать ее плоскогубцами. Когда дырка заполнена до отказа — остается подрезать с обеих сторон торчащие нитки, и пожалуйста — наливай что хочешь. От воды нитки разбухают и не пропускают ни капли. У нас есть пара штопаных кастрюль — так в них можно даже кипятить воду. В таких мирных занятиях мы проводим около часу, и тут в цех входит пани Лида. Делает мне знак рукой, и мы идем наружу.
— Ирочка, вас какой-то молодой человек спрашивает. Он тут, за поленницей.
Пани Лида истинно по-зэковски невозмутима, только в глазах веселые искорки.
— Побеседуйте, а я посмотрю, не ходят ли дежурные.
И пани Лида отправляется на дорожку, а я — беседовать с Васей.
— Ну как слазил? Все в порядке?
— Какое в порядке! Шкуры эти больничные бабы. Пока я с одной был, две другие позавидовали и поскакали на вахту стучать. Дуры! Я б и им потом не отказал. А так еле ноги унес. Ты с этими дешевками дела не имей — бабы всегда продадут, особенно, которые с «общака». У вас, ты говоришь, не такие?
Рассказываю ему про наших. Осторожно, конечно, никаких секретов. У меня еще нет уверенности, что он сам-то не продаст. Вася слушает с открытым ртом.
— И на КГБ плюете?
— Плевать не плюем, но игнорируем.
— Ира, слышь, у меня семь классов. Ты давай попроще выражайся.
— Ну, тогда — плюем!
Когда оба отсмеялись, читаю ему стихи, ведь обещала.
— Ира, ты спиши их на бумажку. У нас один на гитаре лабает.
— У вас и гитара есть?
— Ну, тут теперь нет. Недавно хлопцы начальника режима гитарной струной удавили. Кто сделал — не нашли, а гитару забрали. Но я здесь ненадолго, я сам туберкулезный, меня два раза в год сюда на больничку возят. А на нашей зоне гитары аж две, мы их под самодеятельность получили.
— Ладно, перепишу. А как я тебе передам?
— Я теперь пару дней на перелаз ходить не буду. А тут завтра будет один из наших, Комар его кличка, он вам будет проволоку на ограждении подтягивать. Так ты ему сунь, только осторожно.
— А у тебя какая кличка?
— Шнобель.
— Почему Шнобель?
— Вон видишь шрам на носу? Шесть швов накладывали, и переносица перебита была. С одним фраером зацепился.
Оказывается, что Вася — профессиональный вор, начал еще с детдома.
— Озверел от бедности.
Потом, как водится, лагерь для малолетних преступников, потом обучение у самого знаменитого киевского карманника, потом четыре года краж и «красивой жизни».
— Ни разу не попался. Менты уж за мной охотились, а зашухерить не могли. Так они, гады, меня просто так хапнули, когда я и не крал. Пошел в магазин, стою в очереди. Вдруг меня двое обжали, а какая-то баба кричит, что я у нее кошелек из пальто попер. Баба, ясно, ихняя была, и понятые ихние. Ну, засудили, конечно, у них уже все готово было. Они так любят.
— Вася, а если б у тебя жизнь нормально сложилась, ты бы не крал?
— Не знаю. Когда пацаном был — в моряки хотел. А теперь уже втянулся и красть буду до смерти. А ту бабу увижу — пришью. Ты, Ириша, только меня не перевоспитывай. У меня эта агитация насчет честной жизни уже в печенках сидит. Нет ее, честной жизни! Ну, кто честный? Ты глянь, все воруют вокруг. В детдоме у нас и директор крал, что нам полагалось, и завхоз. В лагере тоже кому не лень. Или менты те честные, что меня взяли? Или тот судья, или тот прокурор? Просто — ихняя власть, а зато я, когда на дело иду — один против всех! Знаешь, как здорово!
— Есть, Вася, честная жизнь. Только она еще труднее, чем твоя.
— Это ты про таких, как вы тут? Ох, бабоньки, уважаю я вас, прямо шляпу снимаю. А только толку от ваших мечтаний не вижу. Вы что ж, думаете, целый народ по справедливости может жить?
— Когда-нибудь сможет.
— Так то — может, через тыщу лет, и то вряд ли. А мы живем сейчас. У тебя, небось, даже и меховой шубки в жизни не было?
— Не было. Даже зимнего пальто не было.
— Эх, Ириша, не встретились мы с тобой на свободе! Я б тебе всего достал — да ты, наверное, не взяла бы?
— Нет, Вася, краденого бы не взяла.
— Господи, бывают же такие бабы! Почему мне ни одна такая не попалась? Ведь так и липнут, шкуры, когда при деньгах — и того им подай, и этого. У тебя мужик-то кто?
— Был инженер-теплофизик, потом его с работы погнали, когда КГБ до нас добрался. Теперь слесарь.
— Ждет тебя?
— Ждет.
— И правильно. Я б ему морду набил, если б он не ждал. Ты, Ириша, хочешь — напиши ему, у меня корешки на свободе. Не сомневайся, воры не продают, у нас с этим строго. Век свободы не видать — передам!
— Подумаю, Вася. Иди, не задерживайся тут, сейчас нам обед принесут, дежурнячки пойдут по зоне.
— Ириша, можно я тебе руку поцелую? Я в кино видел — там женщинам руки целовали. Ой, какие пальчики тоненькие! Ну пока.
— Счастливо!
Две недели у нас шла переписка с туберкулезниками с уголовной зоны. Она расширилась — в нее вступил Васин наставник по воровским делам по кличке Витебский. Особо знаменитым ворам, авторитетам в своей среде, дают «дворянские» клички — по названию их города. Это считается самым престижным. Витебский этот тоже заинтересовался странным, нигде кроме лагеря невозможным соприкосновением двух миров — нашего и воровского. В итоге наши письма стали носить энциклопедический характер — обеим сторонам было интересно знать как можно больше про другой мир. Мы читали их письма все вместе, и Вася в нашей зоне иначе не назывался, как «Ирин вор». Перевоспитывать их мы, конечно, не пробовали — пытались понять. Витебский писал, что он вор по призванию и воровал бы в любой стране и в любом обществе, даже в Америке (Америка ему казалась пределом благоденствия и законности). Нас он очень зауважал, когда узнал, что мы не выполняем никаких издевательских требований КГБ и администрации. И тут же написал, что у них в уголовных лагерях есть такое понятие «отрицалово» — от слова «отрицать». Это — зэки, которые работать не отказываются, но ментов ни во что не ставят, не заискивают перед ними и унижать себя не позволяют — предпочитают карцеры. Для понятности он приводил пример.
«Если начальник нарочно уронит ключи и скажет «подними» — я не подниму, пусть хоть в ШИЗО сажает. А которые перед начальством шестерят называются козлы».
Васю больше тянуло в лирику и самоанализ. Он писал, что ему не по себе при жестоких уголовных «правилках», не по сердцу участвовать в избиениях, когда все бьют насмерть одного. Но и он бил, потому таков их «закон»: предателю нет пощады. В конце концов, весь мир основан на жестокости. Одновременно просил еще и еще стихов, а Витебский насмешливо комментировал: