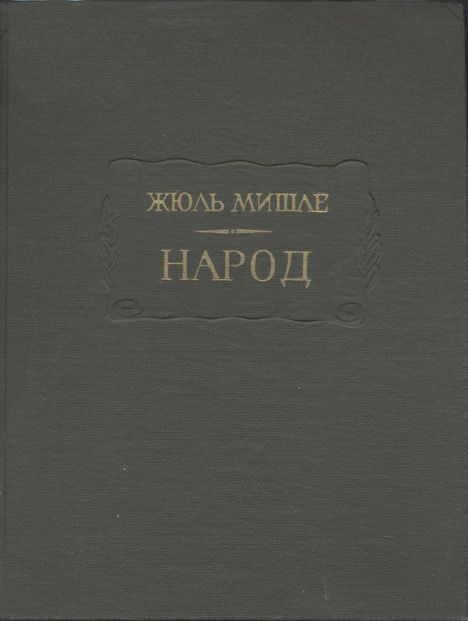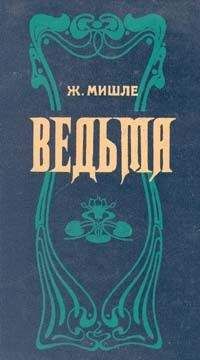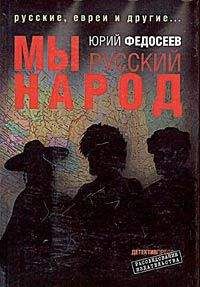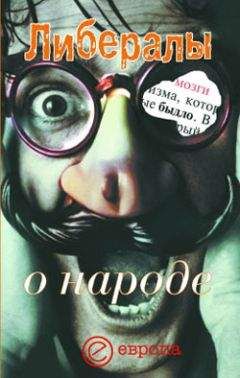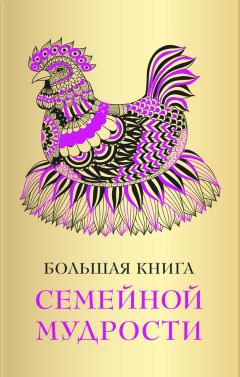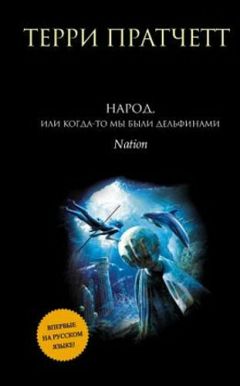class="p1">Самым большим для меня удовольствием, от которого оттаивало сердце, было читать по воскресеньям или четвергам два три раза подряд какую нибудь оду Вергилия [33] или Горация. [34] Мало помалу я запоминал их; вообще же я никогда не мог выучить наизусть ни единого урока.
Вспоминаю эти времена: чаша бед переполнилась, лишения в настоящем, страх перед будущим, враг в двух шагах (1814 год! [35]), постоянные издевательства моих личных врагов. Однажды в четверг я ежился от холода. Печь не топлена, на улице все засыпано снегом, хлеба — ни кусочка, и бог весть, будет ли вечером... (Казалось, все для меня кончено. Но, стоически все перенося (религиозное чувство не играло здесь никакой роли), я с силой стукнул распухшим от холода кулаком по дубовому столу — он до сих пор у меня сохранился. Несмотря ни на что, я испытывал неизъяснимую радость. У меня были молодость, будущее, и я мужал.
Чего же мне теперь бояться, скажите, мой друг? Я уже столько раз считал, что мне настал конец и как человеку и как частице истории. И чего мне теперь желать? Став историком, я тем самым получил возможность участвовать в жизни народа и благодарен за это богу.
Эти годы моей жизни оставили неизгладимый след. Я почувствовал это недавно, 12 февраля, почти тридцать лет спустя. Я сидел в такой же морозный зимний день за тем же столом. И вдруг мое сердце обожгла мысль: «Тебе теперь тепло, другим же холодно. Какая вопиющая несправедливость! Кто исправит это неравенство?» И, взглянув на свою руку, сохранившую с 1813 года следы обморожения, я сказал себе в утешение: «Если бы ты работал вместе с народом, то не мог бы работать для него. Успокойся же! Если ты напишешь для родины ее историю, твое благоденствие будет тебе прощено».
Но я отвлекся. Моя вера не была беспочвенной: в основе ее лежала твердая воля. Я верил в будущее, ибо оно было делом моих собственных рук. Вскоре я окончил коллеж одним из первых. [36] К счастью, я избежал двух путей, одинаково гибельных для молодежи: не стал ни теоретиком доктринером, высокопарным, но пустым, ни литератором профессионалом, чьи упражнения, как бы малоудачны они ни были, охотно печатают в успевших вновь расплодиться издательствах.
Я не хотел зарабатывать на жизнь пером и избрал иное поприще, на котором мог использовать приобретенные мною знания, а именно преподавание. Еще в ту пору я считал, как и Руссо, [37] что литература должна быть не источником средств к существованию, а украшением жизни, отдыхом для души. Как я бывал счастлив, когда, вернувшись после утренней лекции в свое предместье, возле Пер Лашез, [38] мог свесь день, не спеша, перечитывать поэтов — Гомера, Софокла, [39] Феокрита, [40] иногда — историков... Один из моих товарищей, Поре, ставший моим близким другом, тоже читал эти книги, и мы беседовали о них во время долгих прогулок в Венсенском лесу. [41]
Эта беззаботная жизнь продолжалась не более десяти лет, в течение которых мне и в голову не приходило, что я когда нибудь стану писать. Я преподавал одновременно языки, философию и историю. В 1821 году меня приняли по конкурсу на должность преподавателя коллежа. В 1827 году, после появления двух моих трудов — книги о Вико [42] и «Очерка современной истории» я получил профессуру в Высшей Нормальной школе. [43]
Преподавание принесло мне большую пользу. Тяжелые переживания во время ученья в коллеже изменили мой характер, сделали меня замкнутым, робким, скрытным и недоверчивым. Рано женившись и живя очень уединенно, я все больше и больше чуждался людей. Но благодаря общению с моими учениками — студентами Высшей Нормальной школы и другими, сердце мое оттаяло, открылось снова. Молодежь, симпатичная и доверчивая, верила в меня и примирила меня с человечеством. Я был тронут, и огорчало лишь то, что состав моих учеников так быстро менялся: не успевал я привязаться к кому нибудь, как он уже исчезал из поля моего зрения. Все они разъехались кто куда, и некоторые, несмотря на молодость, уже умерли. Но забыли меня немногие, и я не забуду их никогда — ни живых, ни мертвых.
Сами того не зная, они оказали мне неоценимую услугу. Если мне как историку удалось встать в один ряд с моими знаменитыми предшественниками, то этим я обязан своей преподавательской деятельности, научившей меня дружбе. Наши выдающиеся историки были блестящи, проницательны, глубокомысленны, но я любил людей больше, чем они.
И страдал я тоже больше. Тяжелое детство, выпавшее на мою долю, всегда перед моими глазами; я на всю жизнь сохранил память о суровом, утомительном повседневном труде, не порвал своей кровной связи с народом.
Я уже говорил, что вырос, как травинка в щели между двумя булыжниками. Но в этой травинке столько же жизненных соков, как и в травах альпийских лугов. Одинокая жизнь в шумном Париже, учение не из под палки, профессия по душе (я всегда сам выбирал, что преподавать) облагородили меня, но не изменили. Почти всегда люди, поднимающиеся по ступенькам общества, от этого не выигрывают, ибо меняются; они утрачивают свою цельность, самобытность; порвав со своим классом, они не могут освоиться с отличительными особенностями другого класса. Самое трудное — это не подниматься наверх, а оставаться самим собою, поднимаясь.
Нередко в наши дни возвышение и торжество народа сравнивают с нашествием варваров. Это сопоставление мне нравится, я его принимаю. Да, варвары, полные свежих сил, животворных, молодящих; варвары, т. е. путники, шествующие ко граду Будущего, конечно, медленно, ибо каждое поколение делает лишь несколько шагов, останавливается и умирает, но следующие поколения все же продолжают идти вперед.
Мы, варвары, обладаем естественным преимуществом: у высших классов, правда, есть культура, но зато у нас гораздо больше жизненной энергии. Им неведомы ни тяжкий труд, ни его напряжение, суровость, ни добросовестность, вкладываемая в него. Их модные писатели, баловни общества, витают в облаках и, горделиво уносясь ввысь, не удостаивают взглянуть на землю. Как же они могут ее оплодотворить? Она требует, эта земля, чтобы люди поили ее своим потом, согревали своим животворным теплом. Наши варвары все это щедро ей дают, и земля их любит. И они безгранично любят ее, даже чересчур. Описывая свою любовь к земле, они порою вдаются в излишние подробности, как Альбрехт Дюрер [44] с его угловатыми святыми, или Жан Жак, [45] с его чрезмерной витиеватостью, делающей его восторг несколько искусственным. Вдаваясь