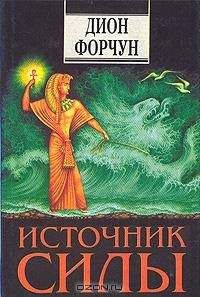Так мы и не знали, куда едем, пока не выгрузили нас на пересыльной тюрьме в Потьме. Запихнули в «камеру для освобождающихся госпреступников» (такая табличка была на двери). И, ничего не сообщая, оставили сидеть. Камера крошечная. Две железные койки одна над другой, параша и тумбочка, все спрессованно так, что не развернуться. Постель, однако, есть, и даже с одеялом. Живем! Но за каким же лешим нас сюда привезли? И куда повезут дальше (это ведь только пересылка)? Как бы то ни было, а валяемся на койках и отдыхаем. До чего же мы, оказывается, устали!
Наутро чин-чином пишем заявления про однодневную голодовку (с кратким экскурсом — что такое День политзаключенных) и возвращаем завтрак. Через час появляется местный офицер, молодой парень.
— И охота вам, женщины, голодать! Что вам здесь, плохо?
Объясняем ему все по этому поводу: и про традиции узников совести, и про позицию нашей зоны.
— И вы думаете этим что-то изменить? Да я понимаю, что кругом творится, у меня у самого это в печенках сидит! И все это знают, а что можно сделать?
Ну ладно, побеседовали еще и на эту тему. Парень демонстрирует понимание:
— Раз уж вам надо писать заявления о голодовке — пишите. А голодать-то зачем? Ведь никто ж не узнает. Я вот вам сахару принес, тушенки, хлебушка белого…
Отказываемся от всего этого богатства и опять добросовестно объясняем… Ох, сколько таких объяснений было у нас за эти годы! Офицер уходит и через пару часов возвращается с молодым зэком.
— Вот, женщины, я вам хлопца привел. Я его тут — хотите? — оставлю на пару часиков, позабавитесь. А вот вам и угощение, чтоб веселее было!
Да-да, читатель, предложение более чем недвусмысленное! Понимаю сама, до чего это дико звучит, и написать бы об этом вряд ли рискнула — настолько неправдоподобно. Но есть у меня живой свидетель — Таня Осипова, теперь живущая в Нью-Йорке, а тогда сидевшая рядом со мной на нижней койке, так же, как я, отвесив челюсть.
Деликатно отказались.
— Что, хлопец не нравится? Так я другого приведу!
Очень вежливо объясняем, что хлопец замечательный (зачем было смущать молодого человека!), но у нас такие моральные принципы. И опять, конечно:
— Что, верующие?
— Верующие, верующие!
Таня верующей себя не считала, но тут уж было не до долгих дискуссий. Выпроводили посетителей и свалились на койку в приступе хохота. Это ж надо выдумать! Интересно, как они это себе практически представляли? Отсмеявшись и придя в себя, замечаем, что в камере заметно похолодало. До сих пор не знаю, случайно или нет — но отопление в тот день не работало. А на дворе уже выписывал вензеля первый снежок. Так же до сих пор, вспоминая эту историю, мы с Таней не пришли к однозначному выводу — хотел ли этот офицерик нас соблазнить всеми возможными зэковскими благами, чтоб мы отказались от голодовки? Или устроил это все по доброте душевной, чтобы сделать нам приятное — как он это себе представлял? Кто знает? Темна вода во облацех…
Эта однодневная голодовка для меня почему-то была тяжелее всех ей подобных. Все мне казалось, что сердце вот-вот остановится. Я лежала на койке тихо, как мышь, и старательно дышала. Таня была бодрее, но основательно перепугалась за меня: ведь сколько уже голодали, и не по одним суткам, а до сих пор такого со мной не было. Так или иначе, а промерзнув до позвоночника, дотянули мы до утра. Развели в кружке кипятка бульонный кубик, съели по корке хлеба… Тут за нами явились и повели нас в камеру для освобождающихся уголовниц — умываться перед дорогой. Куда дорога естественно, не сказали.
Пустая комната на двадцать-двадцать пять коек. Даже не очень похожа на камеру. На двери, конечно, замок, на окне решетка, но в стену вмуровано большое зеркало, есть утюг и гладильная доска. Туалет, умывальник… Необычно чисто для тюрьмы. И почему же та комната показалась мне чуть ли не самым жутким из виденных мною мест? Потому ли, что через нее прошли тысячи отбывших срок женщин? Их свозили сюда, на Потьму, изо всех лагерей, держали до юридического конца срока — и в шесть утра в положенный день выпускали со справкой об освобождении и с направлением на место жительства. Что они думали в последнюю свою тюремную ночь? Многим ли было куда возвращаться, ждал ли их кто-нибудь? Я уже знала, что в дни освобождений под тюрьмой стоят местные бабки с самогоном и продают втридорога, чтоб было чем немедленно отпраздновать. И многие, напившись, даже не успевают с Потьмы уехать, а уже попадаются милиции. А другие доезжают до первого вокзала — и крадут первое подвернувшееся, просто по рефлексу. И зарабатывают новый срок. А третьи, не имеющие дома, направлены на заводы и стройки необъятной нашей страны, и жить им назначено в общежитиях по десять — пятнадцать человек в комнате. Ни одной остаться, ни в себя прийти, ни тем более завести семью. И, не выдержав такой жизни, пускаются они на поиски более «красивой», и опять едут через ту же Потьму в новый лагерь, на новый срок… А которых дома ждет семья самых счастливых и удачливых, — как встретит прежняя жизнь? Усталые, озлобленные, с исковерканной психикой, с клеймом «сидевшей» — смогут ли они снова встать на ноги?
Сколько лиц отражалось в этом зеркале до наших вытянутых физиономий? Сколько слежавшихся за годы на складе платьиц перегладил этот утюг? Сколько снов принимали в себя эти затасканные подушки? И — может быть — сколько слез? Кому не приходилось утешать плачущую женщину:
— Ну что ты, глупенькая, все ведь уже позади!
А потому и плачет, что позади. Это выходят прежний ужас и прежняя усталость. Оставьте ее, пусть плачет. Глядишь — и легче станет.
Нет, не радостью был пропитан воздух этой комнаты, и мы поскорей отвернулись от того зеркала.
Погрузили нас в очередной «столыпинский» вагон — и с Богом! Куда? Мы теряемся в догадках. И как же расхохотались, когда через пару часов нас вывели на платформу Барашево! Выходит, вся эта комедия была затеяна, чтобы на день голодовки убрать нас из зоны! Видимо, КГБ считал нас «зачинщицами» и надеялся, что без нас зона голодать не станет. Голодали, конечно, а теперь со смехом встречали нас и делились впечатлениями. Им вчера внушали, что мы-то с Таней о голодовке и не помышляем, и ставили нас в пример. Ох, какие дешевки!
Вечером я мирно мыла голову, пользуясь наличием электричества. Так ко мне, намыленной, и ввалились дежурнячки:
— Ратушинская! Где вы запропали? Пятнадцать суток ШИЗО за голодовку, пятнадцать минут на сборы!
Сполоснуться я все-таки успела и так с мокрой головой и полезла в обледеневшую машину. Тане дали те же пятнадцать суток, остальных решили пока не сажать. Кого лишили ларька, кого свидания — и клятвенно пообещали, что в случае голодовки 10 декабря отправят в ШИЗО всю команду.
Вот опять наша знакомая камера, вот мышка Машка высунула острый нос из дырки в плинтусе, вот стучат по трубе и здороваются соседи.
Раздели нас вполне добросовестно — балахон на голое тело. А мне что-то совсем плохо. Наверное, простыла. Лежу на отопительной трубе, но без толку — проклятые трубы опять холодные. Дальше был бред, и все в этом бреду меня затягивало в бесформенное пятно на стене, а я цеплялась за трубу. Таня через сутки или двое — не помню — доскандалилась до врача, мне измерили температуру, ахнули и выдали телогрейку. Из всех событий первых десяти дней помню только Таню, висящую на оконной решетке и замазывающую мокрым пайковым хлебом оконные щели. Для нас холод тогда был опаснее голода. Таня занималась этим делом два дня, и весь наш двухдневный паек ушел в щели. Как у нее сил хватило — не понимаю. Потом, больше года спустя, в ПКТ я делала то же самое (только тогда мы уже стребовали с администрации оконную замазку) и оценила, что это значит — висеть, цепляясь одной рукой, а вторую с трудом пропихивать в квадратики решетки и дотягиваться до подлой щели! Рука иногда застревала, и приходилось покрутиться несколько минут, чтобы вытащить ее из очередной ячейки. У меня потом неделю сходили синяки и ссадины с кисти. Не знаю, что было бы со мной в том ШИЗО, если бы не Таня рядом. Через неделю починили нам отопление. Оказалось, просто в трубах был воздушный пузырь. Всего-то надо было привести в камеру слесаря на пятнадцать минут, чтоб отвинтил крантик и выпустил сжатый воздух пополам с ведром грязной воды. Ну а неделя ушла на испрашивание в КГБ разрешения на такой ответственный шаг привести слесаря в камеру особо опасных государственных преступниц. Тем не менее мы остаток срока провели на относительно теплых трубах; я добросовестно глотала назначенные таблетки — и в последние дни пришла в себя. Разумеется, телогрейку с меня немедленно содрали, и когда в последний, кажется, день ШИЗО повели на «беседу» к кагебешнику Тюрину, я представляла собой нетривиальное зрелище. Балахон мне выдали мало того что с бальным декольте, так еще разорванный на груди. При каждом шаге он спадал то с одного плеча, то с другого. Булавок, ниток и иголок в ШИЗО не полагается, скрепить все это хозяйство было нечем. Дежурнячка, выводя меня из камеры, только головой покачала: