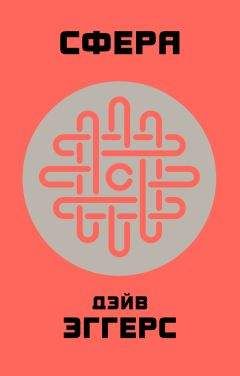Ознакомительная версия.
Меня воспитывали жестко и требовательно, но от реальной действительности старательно оберегали. Вместе с тем родители тревожились, что я, не зная жизни, без их помощи и защиты пропаду. Ко времени, когда я заканчивала школу, отец уже занимал высокий пост в областной партийной власти, поэтому то, что другим доставалось через очереди, взятки и нужные знакомства, мне доставалось за папину должность. Например, спецлечение в спецполиклинике или гарантированное поступление в университет и в аспирантуру. Отец был сначала первым секретарем ростовского горкома, потом вторым секретарем обкома, потом председателем облисполкома. Отец рассчитывал надежно устроить меня в университете, заслоняя от суровой реальности своим номенклатурным статусом. Когда его сняли с поста председателя и вычеркнули из номенклатуры (не без моей вины), он горестно обмолвился, словно прося прощения: «Я не успел сделать тебя доцентом…». Может быть, он думал, что я от бездарности не способна заработать ученое звание своими силами. Но верней, по-моему, другое предположение: он думал, что наша советская жизнь настолько коррумпирована и жестока, что я не смогу в ней «пробиться» с привитыми мне качествами скромности и полным отсутствием нужных связей, то есть советского блата. При папиных должностях знакомство со мной само было блатным, без папиных должностей я стала никем.
Мне всегда внушали, что я такая же, как другие дети, только хуже. Меня учили самокритично видеть мои многочисленные недостатки. Точно «по Сухомлинскому» и всем прописям коммунистического воспитания семья работала над тем, чтобы «любимый человек стал лучше, чем он есть».
Однако я была не такая, как другие школьники и студенты: я была номенклатурная дочка. Родители старались, чтобы это не проявлялось ни в чем, начиная с внешнего вида Всеобщее увлечение джинсами, о котором я много узнала, пока писала эту книгу, прошло мимо меня.
Коричневое платье вроде школьного. Эстетика одежды – это скромность и опрятность. Очки, длинная коса, никакого макияжа. Краситься – неприлично. Боюсь, что тут семья перестаралась, и мой постный вид казался упреком другим девочкам, которые в университет – к друзьям, «на люди» – одевались и красились поярче.
Родителей беспокоила проблема моего общения, а том числе брачных прелиминариев. Со мной это не обсуждали, я догадывалась по осторожным намекам. Если в Ростове и был круг золотой молодежи, то я войти в него не могла: это противоречило бы всему семейному воспитанию. С детьми партийных начальников я не была знакома и не знаю, составляли они особый круг или нет. Родители с готовностью приняли бы хорошего умного мальчика-студента из простой семьи. Отец помог бы ему с карьерой. Но родители опасались, что ситуация может обернуться советским штампом: «сильно страшная» начальникова дочка и соискатели ее руки, влюбленные в папину должность. «И с доскою будешь спать со стиральною за машину за его персональную!»
Могу засвидетельствовать, что на филологическом факультете все мальчики были умные и порядочные, поэтому старались ко мне не приближаться. А если у мальчика возникало со мной какое-либо взаимодействие, то студенческое общественное мнение тут же напоминало ему, «что у папи у ее дача в Павшине, что у папи холуи с секретаршами». Одна из моих однокурсниц сама об этом впоследствии рассказывала. Настороженно-неприязненное избегание – таким было отношение порядочных студентов к партийной власти, а тем самым и ко мне, как ее осколку.
Но семья так настойчиво внушала мне принципы равенства, что я наивно думала, будто и сама по себе что-то представляю, не отличаясь этим от других. Отец по должности имел возможность покупать дефицитные книги – заказывать по каталогу. Обмениваясь книгами, я оказалась среди умных интересных людей. Все мы были очень молоды: от семнадцати до двадцати семи. Появились и запретные тексты. Мы их обсуждали. Но грянул донос. К папе явился гэбэшник и потребовал принять срочные меры: «ваша дочь связалась с плохой компанией». У папы буквально отнялись ноги: он целый час не мог встать (о чем мне гораздо позже рассказала мама). В родителях застонало их настоящее чувство к родной советской власти, которая им все дала, – обреченный ужас. Всего лишь из-за «факта знакомства». Доносчик (или агент?) не знал ни о запрещенных книгах (у меня их не искали), ни о том, что Н. Н. был моим любовником (в «разврате» меня не подозревали). А если бы открылось, тогда что? Впрочем, никого не тронули, а Н. Н. скоро совсем уехал из Ростова. Трезво говоря, ничего криминального и не было: жизнь неглупой молодежи с содержательными разговорами, книгами и «романами». Но меня посадили под домашний арест. Выходить разрешалось только в университет. Папа в отчаянии кидался на маму: это ты виновата! Мама в отчаянии кидалась на папу: помоги ребенку, спаси! Меня папа спрашивал: неужели ты не понимаешь, что ты этим людям не нужна? Они пользовались твоей безответственностью. Они хотели сделать гадость партии! А ты сама никого не интересуешь!
Что ж, вполне возможно, что именно так и было. Тем очевиднее, что семейное коммунистическое воспитание, как и общественное, потерпело полное крушение в тех двух областях – пола и политики, куда были брошены главные силы. Вероятно, пол, как и политика, считался сферой сакрального. Во всяком случае, воспитательные средства были одинаковыми: жесткое ограничение знаний вплоть до табуирования, внушение страха и тревоги, стыда и неуверенности, острого чувства вины и опасности – абсолютное «нельзя». Вместе с тем – пафосная идеализация. Даже серьезные энциклопедические издания сюсюкали вслед за основоположниками, когда дело касалось любви или наших политических целей. «Сложится единое коммунистическое общество в масштабе всей планеты», «источники общественного богатства польются полным потоком», «любовь играет огромную воспитательную роль, способствует осознанию личностью самой себя, развитию ее духовного мира» и т. д. (Философский энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1983, с. 268, 329).
Когда строжайший надзор за мной после этого семейного потрясения несколько ослабился, ситуация повторилась. Только теперь это был другой круг: там были люди немолодые, возраста моих родителей. Их и с работы выгоняли, и в газетах травили. Они были под угрозой ареста. Эту историю, в буквальном смысле подпольную, я описала в мемуарном очерке, посвященном памяти Леонида Григорьевича Григорьяна (1929—2010), поэта, переводчика, диссидента, отца моей дочери (Нева, 2012, №9. https://goo.gl/49IhZi). Думаю, что рождение у меня внебрачного ребенка сыграло свою роль в снятии моего отца с номенклатурной должности.
Мои родители были людьми выдающихся дарований и большой души. Справедливыми и честными. Они широко мыслили и хотели общественного блага. Коммунистическая ситуация «социальной шизофрении» несомненно их мучила. В том числе разладом со мной. Самые родные люди не доверяли друг другу, скрывали друг от друга свои мысли и плохо друг друга знали. Жутко подумать, какого отец был мнения обо мне, если ожидал от меня претензий и презрения, когда его выгнали из номенклатуры, и не ожидал любви и поддержки.
Внушения советского воспитания, сцепленные с чувствами вины и страха, были болезненными и разрушительными. Самым непреодолимым для меня было (и осталось) сознание бесправия и беззакония. Уверена, что не только для меня. Доказательством служит молчаливое, обреченное принятие населением любых действий власти, в том числе той практики, которая получила название «басманного правосудия». Конечно, в наше время открыто протестуют гораздо больше людей, чем протестовали в советское. Но все равно это лишь узкий круг активных граждан. Протестую и я, но знаю, что установка большинства осталась советской: «от нас ничего не зависит, не высовывайся, хуже будет». В этом я убеждалась не раз, когда во время избирательных кампаний агитировала москвичей подписаться за право оппозиционной демократической партии участвовать в выборах. Объясняла и повторяла: ваша подпись – не призыв голосовать именно за эту партию, а лишь согласие на то, чтобы партия имела право баллотироваться. «Вы согласны?» Абсолютно все были согласны. Откликались с готовностью, высказывали критические замечания о власти и ее пропаганде. Вплоть до того мгновенья, пока не обнаруживали, что в подписном листе надо указать адрес и паспортные данные. Тут большинство морально пятилось. Примерно восемь из десяти. Те самые 86%, которые и сегодня, по моему убеждению, вовсе не поддерживают власть, не одурманены пропагандой, а всё понимают, но морально пятятся, потому что боятся. Отказывались всегда одинаково. Я записывала реплики.
Ознакомительная версия.