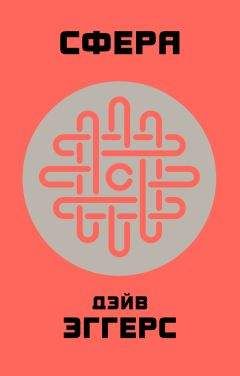Ознакомительная версия.
«Нет, если без паспорта, то подпишусь, а с паспортом – не надо»
«Нет, я, конечно, не против, но подписываться не буду. Партия оппозиционная, а мне тут жить»
«Не то что я боюсь, не подумайте. Но буду чувствовать себя очень неуютно. Ведь понятно, какая партия победит, а получится, что я поддерживаю другую»
«Нет, нет, как же я подпишусь? Ведь я работаю в бюджетной организации. А если директору сообщат?»
«Нет, зачем я стану подставляться и привлекать к себе лишнее внимание? Совершенно мне это не нужно»
«От нас ничего не зависит, без нас давно все решили. А подписаться – все равно что проявить строптивость»
«Они сели нам на шею и не слезут. От нас ничего не зависит. От меня ничего не зависит»
«Нет, я боюсь. Ну как чего? Вы что, сами не понимаете? А вы разве не боитесь? Напрасно…»
Полностью подтверждается вывод Бориса Дубина, который писал, что «базовая тактика населения – быть невидимым для власти. Кто служил в армии, знает: начальству попадаться на глаза не надо. Ускользание от глаз начальства, постоянная невидимость („нас здесь и сейчас нет“) – это очень важная установка и населения, и „элитных“ групп, ведь они тоже подначальные» (Борис Дубин. Россия нулевых: политическая культура – историческая память – повседневная жизнь. – М., 2011. с. 378).
Быть незаметной и неуловимой – это требование бабушка мне внушила раз и навсегда с помощью сильнодействующего средства. Дело было так. В одиннадцать лет я начала вести дневник. Он показал мне скуку и бессодержательность моего существования. Не имея никаких ресурсов добавить содержания в жизнь, я принялась добавлять его в блокнот – наивно рассуждать о «важном». Помню, что писала о бесконечности, о событиях в Китае, о международном положении (оно меня очень тревожило), что-то и о внутренней политике, хотя уверена, что ни Ленина, ни Брежнева не упоминала. А еще, представьте себе, о радостях материнства. Блокнот я не прятала, усвоив благоглупость, будто личные дневники и письма читать нельзя. На самом деле понимать следовало так, что мне – нельзя, а мои – можно. Бабушка прочла и долго, панически меня «ругала». Она кричала: «Признавайся во всем!». В чем? – я не понимала, но струсила до лязга зубов. Она кричала: «Если узнают мама с папой, даже подумать страшно, что будет!» (помню дословно). Она грозила при первом же моем ослушании все рассказать родителям, и тогда меня «отправят в интернат» или «еще хуже».
В рамках прекраснодушной «педагогики гуманизма» случай вопиющий. Но для понимания советской реальности – необходимый урок. По своей воле рассуждая о сакральном, я нарушала технику безопасности во взаимодействии с миром, в котором мы живем.
Исписанные странички я сожгла в железной раковине и пепел смыла. Теперь очень жалко. Живой детский документ, записи с января по ноябрь. Но я символически продемонстрировала, что урок усвоен: думать опасно, записать еще опаснее, дневник – улика, личной тайны не существует. Берегись, молчи, всю семью подведешь!
Воспоминания мамы, Надежды Васильевны Текучевой
Расшифровка диктофонной записи (декабрь 2009).
– Воспоминания мои – прежде всего об отношениях. Детали быта – они ведь для ребенка разумеются сами собой и воспринимаются, как единственно возможные.
Я помню отношения. В три-четыре года уже понимала и запомнила хорошо.
Какая у нас была семья? У нас был собственный дом. История моего дедушки (прадедушки – Е.И.) Кузьмы – необыкновенная. Он был кучером на одном хуторе у богатого хозяина. Поговаривали, что он был его незаконным сыном. Как назывался хутор, не знаю. Когда хозяин умер, то завещал моему деду свой дом. Дед его продал и купил дом в станице Цимлянской. Вот там мы и жили. Дом двухэтажный, двор большой, во дворе кухня, коровник.
Дедушка был виноградарь, винодел. Работала только наша семья: мама, бабушка, папины сестры – тетя Клава и тетя Лариса. Лариса было еще девочка, помню ее четырнадцатилетней.
Отношение казаков к детям – или только в нашей семье? – было очень глубоким и уважительным. Мне было три-четыре года, меня тоже брали на виноградник – помогать. Помню жаркие дорожки, виноградные линии, помню крохотный домик. Однажды подвязывали виноград, я бегала недалеко от бабушки и позвала ее: «Бабушка, бабушка, посмотри: палочка, а шевелится!» Гадюка. Там было много гадюк. Меня сразу подхватили и унесли. Слышу бабушкин голос – тревожно и строго: «Клава, Лариса, быстро с лопатами сюда». С гадюкой расправились без меня, а история стала семейным преданием: палочка, а шевелится.
Это двадцать восьмой или двадцать девятый год. Маме было двадцать два.
Помню, как я тяжело болела. У меня был коклюш, а это такие приступы, что ребенок может умереть. Однажды мы были с мамой вдвоем в доме. Идем по коридору на втором этаже, этот коридор так и стоит перед глазами, и я закашлялась. Не могу остановиться, не могу вздохнуть. И вижу, мама испугалась. И мне не столько было страшно за себя, как жалко ее. В какой-то момент чувствую, что немножко продохнула, где-то в глубине стало получше, но мама этого пока не понимает, а мне главное – сказать ей, но сказать не могу, все кашляю и кашляю.
Мамины родители жили на хуторе Маркинском. Недалеко, я там часто бывала, меня очень любили. Семья – дед с бабкой, семеро детей и бабушка старенькая, которая все время проводила на полатях, почти не слезала.
Дедушку Кузьму разбил паралич. Он не вставал, но был в полном непотревоженном сознании, и речь сохранилась. А я ему читала книжки. Это тридцатый год, мне только исполнилось четыре. Очень хорошо помню, что читала «Почту» Маршака.
Меня рано научили читать. Тетки были грамотные, но не более того. Папа закончил семь классов, а мама – десять, и потом, когда мы жили в Батайске, поступила в Ростовский университет, на химический факультет, на заочное отделение. Первое высшее образование в нашей семье.
Помню себя на стуле рядом с дедушкиной кроватью, или заберусь прямо к нему в постель, бороду ему расчесываю. И слышу, как он говорит: «Если бы у меня таких была еще парочка, я бы очень быстро выздоровел».
У моих дедушек и бабушек было всего одиннадцать детей: четверо в одной семье, семеро в другой. Но у этих одиннадцати детей своих детей было только шестеро.
Моя семья для меня была всем. Была любовь, уважение к детям, друг к другу. Я бы сказала, было поэтичное чувство. Так вспоминается.
– Это уже тридцатый год. Все сломалось. Раскулачивание.
– Семья по материнской линии вовсе не была богатой, нет. Она была большая, семеро детей, вот и хозяйство было большое. Два быка, две коровы, овцы. Занимались хлебопашеством, огородничеством.
Конечно, я помню это ужасное дело. Однажды утром я просыпаюсь от того, что мама бьется в истерике. Но что случилось, поняла не сразу. Постепенно узнаю, что дедушку Михаила Ивановича высылают. Хотя он вступил в колхоз одним из первых. У нас не произносилось слово «раскулачивание». Говорили: «высылка». Высылка со всей семьей. Слышу, говорят: «Надо пойти посоветоваться к Кузьме Михайловичу». Хоть и в параличе лежал, но сознание ясное. Вернулись с семейного совета. Обсуждали: бежать и скрываться или уезжать. Дедушка Кузьма сказал так. Поезжайте, вы не сумеете с детьми и старой матерью жить в бегах. Советская власть пришла, надо подчиняться. Выстоите, выживете, а там видно будет. «Подчиниться власти» – это я помню очень хорошо. «Так случилось. Так сложилось. Надо принять эту власть» – помню эти слова. Хотя мне было четыре года.
Под высылку не попадали только замужние дочери. Замужем были мама и тетя Поля, Пелагея Михайловна. А младшей, восемнадцатилетней тете Кате, пришлось выйти замуж, чтобы не уезжать. За того самого человека, который, по убеждению всей семьи, и донес на деда. Донос был о том, что семья очень богатая и держит батрака. Но не были они особенно зажиточными, и батрака не было.
– Почему ты словно оправдываешься? А если семья действительно была богатая и нанимала работника или даже нескольких, что тут плохого?
– Нет, не нанимала. У них вместе с детьми жил племянник, вот этого племянника в доносе и назвали батраком.
Что можно было взять с собой в ссылку, чего нельзя, – существовали специальные установления. Дом забрали государству. И они уехали: дедушка, бабушка, четверо сыновей и старенькая прабабушка. В Сибирь. Не помню, куда именно.
Стали приходить письма. О том, что жить можно, что государство заботится. Дали возможность снимать квартиру, деду разрешили работать – он был почтальоном. А прабабушка в ссылке скоро умерла.
Но я помню твердо и говорю со всей ответственностью – настроение было такое: советская власть наказала, но это наша власть, она не погубила, а дала возможность подняться на ноги. Думали, что советская власть в принципе ни при чем. Доносчик – вот кто виноват. Тот, кто оклеветал. Со мной специально об этом не говорили, но от меня ничего и не скрывали. Я знала все как член семьи.
Ознакомительная версия.