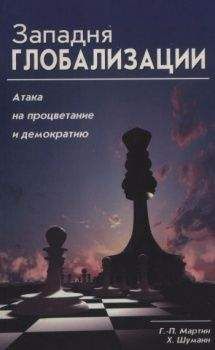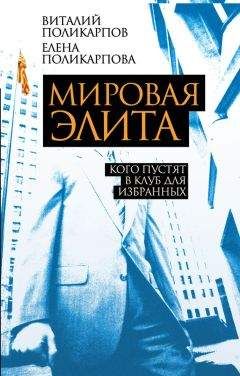Таким образом, краеугольный камень политического объединения Европы уже заложен. Если бы государства-члены еще и выработали общую социально-экономическую политику, распределение ролей на мировой арене претерпело бы серьезные изменения. Опираясь на рынок с более чем 400 миллионами потребителей, политически единая Европа имела бы не меньший вес, чем Соединенные Штаты Америки. И тогда действительно достойный своего названия Европейский Союз мог бы, имея хорошие шансы на успех, настаивать на ликвидации налоговых убежищ, требовать соблюдения минимальных социальных и экологических стандартов и повышать налог с оборота в сделках с капиталом и валютой. Если вообще есть шанс на то, чтобы связать воедино мировую экономику и в экономическом и в социальном отношении, то именно этим путем и надо идти.
При всей скорости, с которой Коль и его партнеры продвигают технические и организационные аспекты объединения, им пока что не удалось превратить ЕС в реально дееспособную политическую единицу. Аппарат ЕС и его методы формирования общественного мнения и принятия решений застряли на уровне обычной межгосударственной дипломатии. Большинство граждан справедливо видит в нынешнем проекте ЕС чуждого демократии монстра, призванного заменить их национальные государства властью технократии.
Рассмотрим простую аналогию, проясняющую странную структуру европейской конфедерации. Представим себе, что в Германии все законы принимаются не Бундестагом — федеральным собранием, а Бундесратом, состоящим из делегатов правительств и министерств отдельных земель республики. Допустим также, что делегаты не подчиняются директивам своих парламентов и даже не подотчетны им. Все переговоры проводятся за закрытыми дверями, а делегаты должны хранить в тайне то, как они голосуют. В обсуждении и принятии законопроектов парламентарии также не участвуют. Вместо этого проекты постановлении составляются центральным органом из 12 000 человек, неподконтрольных парламентам, но консультируемых целой армией промышленных лоббистов. Назвать подобную систему демократической может лишь циник. Но именно так неделя за неделей творится европейское законодательство в Брюсселе.
Там, в стандартном офисном здании из стекла и мрамора на Рондпойнт-Шуман, чуть ли не ежедневно собираются в соответствии с повесткой дня ведущие министерские бюрократы из стран ЕС. Зачастую несколько комитетов заседают одновременно. Как только министры, их заместители, послы или их представители более низкого ранга входят в это здание, у них в конституционном смысле появляется вторая личность. Из чиновников исполнительной власти они превращаются в обладателей мандатов важнейшего законодательного органа Европы — Совета Министров. Они модифицируют и принимают предложения центрального органа Комиссии ЕС. Все, что данная структура одобряет как «директиву» или «постановление», является юридически обязательным для всех 15 государств-членов, независимо от воли национальных парламентов. Единственная функция, оставленная парламентам, состоит в том, чтобы без голосования вносить такие тексты в национальное законодательство. Так исполнительный орган ЕС пишет все больше своих собственных законов при закрытых дверях, и именно по этой схеме была принята по крайней мере треть германских законов последнего десятилетия.
Принцип разделения властей фактически отменен в пользу власти Брюсселя, и тем самым заложены семена массового недовольства проектом объединения Европы в целом. Выборы в так называемый парламент в Страсбурге — это периодическое попрание суверенной власти государств-членов. За какую бы партию ни голосовали избиратели, ни один из заседающих в Брюсселе правителей своего места не лишится. В то же время целые группы с общими интересами систематически исключаются из процесса принятия решений в ЕС. Противодействуя в Брюсселе примерно 5000 организованных в международном масштабе лоббистов от промышленности, группы от профсоюзов, специалистов по охране окружающей среды и защитников прав потребителей не надеятся даже на гласность. Плохая пресса докучает евробюрократам не более, чем плохая погода.
Такое продолжение демократии технократическими средствами, может быть, и удобно правительственным аппаратам, потому что чиновники избавлены от неприятных публичных дебатов. Но как форма правления оно все дальше и дальше заводит Европу в тупик, где нет никакой возможности действовать. Кажущаяся сила администрации ЕС является в действительности ее величайшей слабостью, ибо без демократической законности невозможно добиться никакого решения большинства по важным проблемам. Система ЕС страдает тем же недостатком, что и глобальное управление: она дает сбой всякий раз, когда правительства не приходят к взаимному согласию. Никто не в силах заставить все 15 стран действовать одновременно. Ни один проект реформы, не получивший поддержки транснациональной индустрии, до сих пор не прошел. Осмысленные экологические, социальные и налоговые реформы уже не разрабатываются на европейском уровне, но и национальные парламенты больше не в состоянии справиться с дестабилизирующей силой рынков; ссылки на международную конкуренцию пресекают в корне любые попытки сделать это собственными силами. Экономическая интеграция до сих пор ведет не к Соединенным Штатам Европы, а к рынку без государства, где политика лишь расписывается в своем бессилии и порождает больше конфликтов, чем может разрешить.
Рынок без государства
Эта система обречена на провал. Не надо быть оракулом, чтобы понимать, что принцип комитетов министров в скором времени сделает пробуксовывание реформ совершенно нестерпимым. Чем сильнее будет социальная напряженность во Франции, Италии, Австрии, Германии и других государствах-членах, тем больше их правительства будут вынуждены срочно находить национальные решения, тогда как ЕС не предлагает никакой перспективы. Слабость Европы с ее правительствами прокладывает путь всевозможным популистам, обещающим своим избирателям вновь сделать политику национальной. Даже если такие провозвестники национального возрождения, как Ле Пен, Хайдер или Фини, и не добьются парламентского большинства, они подвергнут правящие партии сильнейшему давлению. Справляться с «национальным рефлексом», как элита ЕС насмешливо называет сопротивление ее режиму, будет все труднее, сколь бы иррациональным и экономически бессмысленным ни выглядело стремление выйти из европейской ассоциации.
Между государствами-членами возникнут конфликты (самое позднее, когда будет создан валютный союз), разрешить которые в рамках существующей конституции ЕС и его закулисного законотворчества будет невозможно. Если, например, какая-нибудь страна не выдержит гонки за подъем производительности, ее экономика неизбежно погрузится в кризис. В прошлом центральные банки еще могли смягчать подобные удары путем девальвации национальной валюты и поддержания по крайней мере экспортных отраслей. После создания Европейского валютного союза этого буфера уже не будет. Взамен потребуются компенсирующие дотации из богатых стран в бедствующие регионы. Но если такого рода региональная помощь является обычной практикой в пределах национальных государств, то как Совет Министров предполагает организовывать ее на европейском уровне? Вряд ли можно будет использовать с этой целью налоговые поступления без соблюдения демократических норм, без должного уровня понимания такого шага населением. Этого можно добиться только в том случае, если решения, принимаемые брюссельским советом, будут представляться на суд общественности и если избиратели будут уверены, что, придя к избирательным урнам, они могут на что-то повлиять. Правда, тогда честолюбивым законодателям из министерских комитетов сперва придется доходчиво объяснить своим избирателям, почему нельзя пренебрегать благосостоянием, скажем, греков. То же самое препятствие до настоящего времени стоит на пути совместной полицейской власти. Сколь бы настоятельной ни казалась Гельмуту Колю необходимость в «европейском ФБР», невозможно представить, чтобы существующая система смогла содержать оперативные полицейские силы, которые проводили бы расследования на всем пространстве ЕС. Если такие силы не будут контролироваться каким-либо парламентом и независимыми судами, они попросту превратятся в структуры наподобие мафиозных.
Выходит, что в ближайшем будущем правителям ЕС придется ответить на вопрос, как будет функционировать Европа, которую они сколачивают, и как ее нужно демократизировать. Часто высказывается неверное предположение, что ключом к единой Европе в той мере, в какой в этом заинтересованы ее граждане, является Европейский парламент в Страсбурге. Теоретически 626 евродепутатов уже обладают всей необходимой полнотой власти для преобразования нынешнего дискуссионного клуба в подлинно демократический надзорно-за-конодательный орган. Если бы удалось собрать большинство, выступающее за роспуск Комиссии ЕС, оно могло бы упразднить ее хоть завтра. Кроме того, блокируя бюджет или ратификацию всех международных договоров, оно могло бы заставить Совет Министров исполнять любое требование[400]. Если бы парламентарии в Страсбурге были действительно искренни в своих призывах к демократизации Европы, им ничто не помешало бы незамедлительно принять на себя соответствующие полномочия. Для начала хватило бы одной простой меры: сделать переговоры внутри министерских комитетов гласными. Ни один министр не отважился бы заставить полицию удалить депутатов, каждый из которых избран как минимум полумиллионом человек. Но если демократический раж еще не настолько велик, то лишь потому, что для примерно сотни представленных в Страсбурге национальных партий проблема европейской демократии стоит отнюдь не на первом месте. Большинство депутатов по-прежнему идет на поводу у своих правительств и в конфликтных ситуациях получает от них четкие инструкции по голосованию.