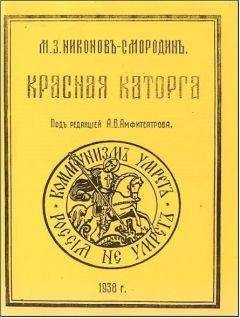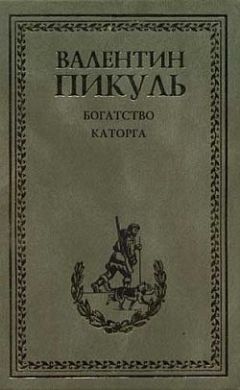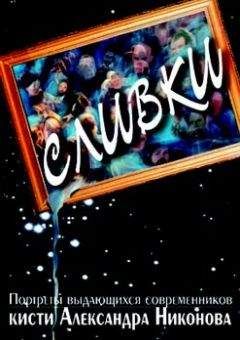Оксана набросилась на меня, щеголяя знаниями обществоведения. Она стреляла цитатами из «Азбуки коммунизма» и было жалко смотреть на этого вполне зрелого человека с вывернутыми мозгами… Она не изучала истории. Для неё история начиналась с октябрьских дней. До этого был царизм и буржуазные правительства. Всякое общественно-политическое явление она рассматривала без исторической перспективы и от того её суждения были узки и примитивны. Если ей случалось выйти из рамок «Азбуки коммунизма», она чувствовала себя беспомощной. Полную беспомощность проявляли они и в чисто практических, агрономических вопросах. Прописи они, конечно знали, но опыт агрономический, увы, отсутствовал совершенно. Чтобы закрыть эту брешь, они делали длительные экскурсии в область «обществоведения», предпочитая конкретному отвлеченное. Впрочем, Настя Дроздова относилась ко всему спокойнее. Она была значительно старше своей подруги и знала старое «буржуазное время».
— Надеюсь вы, товарищ Дубинкин, нам поможете?
— Конечно, конечно. Я уже восемь лет работаю в землеустройстве и дело знаю. Будем работать совместно.
Агрономы расцвели: наконец-то они нашли настоящего советского работника. Наш разговор перешел на житейские темы, ибо мои попытки перейти на специально агрономические темы окончились полным фиаско. Мои агрономы не знали подчас самых обыкновенных вещей агрономического обихода.
Наконец, уже вечером мы устроились на пароходе.
Ночь здесь наступает довольно быстро, сумерек почти нет. Наш маленький пароход идет, охваченный мраком, вздрагивая от работы машин. Мерно ударяют в его корпус небольшие волны, слегка его покачивают. Темный берег исчез, и только далекие огоньки среди гор горят то где-то внизу — вероятно, у моря, — то где-то в горах.
Мы сидим на палубе, и Настя рассказывает про свое детство:
— Знаете, я ведь детство провела в коммуне еще в царское время.
— Не слыхал никогда о коммунах в царское время, — сознался я в своем невежестве в таком важном вопросе, как история сельскохозяйственных коммун.
— Расположена она недалеко от Геленджика. Называется «Криница».
— Так ведь это толстовцы. — вспоминаю, наконец, я.
— Вот именно. Основал ее Еропкин. Именно в этой коммуне я и провела детство и школьные годы.
— Значит вы получили настоящее коммунистическое воспитание?
В полумраке мне показалось, будто Настя поморщилась.
— Уродливо в общем там было поставлено и воспитание и обучение. По толстовским трафаретам. Молодежь эта учеба разумеется не удовлетворяла. Начался форменный исход молодежи в гимназии. Вот и я тоже. Приемные экзамены сдала хорошо. Но самое трудное было привыкнуть к новому строю жизни, к дисциплине. Что вы удивляетесь? Да ведь в криницкой школе и в жизни отсутствовала всякая дисциплина. Каждый делал что хотел. И вот в гимназии мы сделались посмещищем своих подруг. Конечно, мне теперь и самой смешно. Посудите сами: в разгар занятий криничанка встает и идет к двери. Педагог удивленно осведомляется куда и почему хочет уйти криничанка. Она краснеет, весь класс хохочет. Или среди урока вынимает завтрак и начинает закусывать. Опять очередной просак.
— Но вы, конечно, скоро привыкли?
— Вот в том то и дело — не скоро. Ведь отсутствие дисциплины впиталось в плоть и кровь. И чувствовали мы всегда себя отвратительно: в конце концов, не знаешь, можно или нельзя сделать какой-нибудь пустяковый шаг, движение, употребить выражение.
Гулкий свисток известил о конце нашего путешествия. Пароход остановился на рейде против Джубги. Из темноты вынырнула лодка, принявшая нас с судна.
Пароход выбрал якорь, потушил лишние огни и стал удаляться. Мы очутились во мраке безлунной ночи. Лодка скользила по небольшим волнам и медленно подвигалась навстречу мигающему свету берегового маяка.
С пустынного берега мы идем по тропинкам среди темных кустов и деревьев. Я иду сзади за моими спутницами, то опускаясь во встречные невидимые ложбины, то взбираясь на пригорки, пока перед нами не вынырнул из мрака силуэт белого домика с освещенным окном; нас уже ждала старушка — мать Насти.
Мы сидим в небольшой, освещенной лампой, комнате и ужинаем.
— Вы все же не докончили ваш рассказ, Настя. Чем же кончилось ваше гимназическое мытарство? — спросил я.
— Ничем. Я ушла в революцию и сидела по тюрьмам.
Село Джубга рассыпалось по долине небольшой горной речки того же имени, впадающей в море в пределах самого села. В этом горном селе есть даже небольшая площадь и на ней церковь.
Недалеко от площади в большом досчатом сарае с грубо сколоченной сценой собралось общее собрание земельного общества. На председательском месте местный крестьянин-кооператор, с неудовольствием принявший свое избрание в председатели этого собрания. Чванства в этом, конечно, не было: всякий стремился уйти в тень, представляя поле деятельности партийным людям. Соблюдающих крестьянские интересы беспартийных общественных работников очень часто высылали с берегов Черного моря на берега Белого.
Собрание идет, как вообще они идут в советском союзе, с массой ненужных ритуально-коммунистических речей о давно известном и никого не интересующем. Оживление вносит мой доклад. Знакомлю, как-всегда, с земельными законами, сообщаю о праве каждого крестьянина выбирать любой способ пользования землей и, конечно, особенно рекомендую коллективный способ землепользования. Настя и Оксана мне усиленно помогают. «Азбука коммунизма» у них в полном ходу.
Никто не возражает. Председатель после небольших формальностей начинает голосовать.
За коллективный способ — никого. За образование выселков — половина.
Тут уже не выдержал председатель сельсовета Пустяков. Он обрушился с рьяностью обиженного в своих лучших стремлениях на своих «пасомых», порученных ему, пензенскому коммунисту, Черноморским парткомом «тащить в коллектив» и «не пущать на хутора».
— Что же это, товарищи? Обсуждали мы с вами без малого год наш земельный вопрос, намечали коллективы в первую очередь. А теперь выходит на попятный. Как можем мы свою рабоче-крестьянскую власть обманывать? Надо забывать, товарищи, эти повадки — наследство от царского режима. Здесь не стражник с плетью, а своя рабоче-крестьянская власть, власть советская.
Долго усовещивал Пустяков крестьян, но толку из этого не вышло. Даже хуже. Половина воздержавшихся от голосования намеревалась разбиться на хутора. Пустяков обличал эту «помещичью» повадку жить хутором и пробовал запугивать будущих хуторян. Гробовое молчание было ему ответом. Крестьяне нэповской поры верили в закон. Они думали примерно так: если есть твердый закон, то Пустяков и комячейка не имеют значения. Газеты вели бешенную кампанию за «революционную законность», необходимую при проведении в жизнь основ новой экономической политики (нэпа) или проще — право свободной торговли и накопления капитала городской буржуазии и замаскированная земельная собственность деревне.
Доверчивые в своей массе крестьяне верили в этот обман. Они и знать не хотели о временности нэпа. И впрямь в этом вихре возрождающейся экономической жизни трудно было верить в возврат к такой дикой вещи как, скажем, голодный военный коммунизм. Как бы то ни было — нэп вызвал у крестьян доверие к власти. Была пора подъема крестьянства — деревня начала богатеть и вместе с тем у крестьянства появилась вера в свои силы. Эти силы противопоставляли домогательству коммунистов добровольно коллективизировать крестьянские хозяйства свои собственнические тенденции. Ни о какой коллективизации, в более или менее крупном масштабе, не могло быть и речи. И в обширной Сибири, только что мною покинутой, и по всему пространству России, шла тяга на хутора. Большинство фабричных рабочих было связано с деревней земельными интересами. Земельный закон давал и им возможность удерживать за собою свои надельные земли. Среди этих, не порвавших с деревней, рабочих хутора пользовались большой популярностью и их клич «даешь хутора» несся по фабрикам и заводам.
Коммунистическая партия, казалось, в земельном вопросе зашла в явный тупик. Возврат к единоличным формам землепользования означал бы полное поражение коммунистических планов в деревне.
Однако, партия по-своему обыкновению прибегла и в этом случае ко лжи, в этом я убедился еще будучи в Сибири: вот как это произошло.
Заведующий Устькаменогорским земельным управлением коммунист Колюшкин, уезжая в отпуск, оставил меня своим заместителем.
— Ничего, теперь время спокойное, — успокаивал они меня, — да и пробуду в отпуску только месяц.
Он сдал мне дела и напоследок, передавая небольшой ключик, сказал:
— Вот это от нижнего ящика письменного стола. Там секретные бумаги. Смотреть там ничего не нужно. Я это оставляю на всякий случай, чтобы в случае чего, не пришлось взламывать стол.