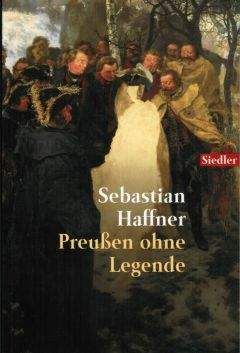Проект суда потерпел крушение: «старые товарищи» Азефа психологически не могли встретиться с ним, — хотя бы как с подсудимым, — и отказались от каких бы то ни было разговоров на эту тему. Поэтому мы никогда не узнаем, как поступил бы Азеф, если бы предложенный суд был учрежден и если бы он вынес ему смертный приговор. Зная Азефа, приходится больше чем сомневаться, что он подчинился бы ему и покончил бы свою жизнь самоубийством, как он это обещал в своих заявлениях. Но в одном он от беседы с Бурцевым был в выигрыше: Бурцев поверил, что Азеф больше не имеет никаких сношений с полицией, — а вслед за Бурцевым этому поверил и весь мир. В результате, настойчивость, с которой революционеры вели поиски Азефа, не могла не ослабеть. А для последнего это было самым главным.
Бурцев дал Азефу обещание, что не использует свидания в целях наведения социалистов-революционеров на его следы. Последний верил этому обещанию. Но береженого бог бережет. А потому свои меры для охранения безопасности он принял. Из Франкфурта он метнулся в Довиль, чтобы «освежиться» за зеленым столом последнего. Игра на этот раз была особенно азартна: Азеф спустил все свои деньги и уже послал г-же N. телеграмму о высылке тысячи франков на расходы. Но в последнюю минуту счастие повернулось к нему лицом, — и он уехал с выигрышем. Из Довиля Азеф вернулся в Германию, — но не в Берлин: ездил по Рейну и Мозелю, жил в санатории в Вильдунген, был в гостях у матери г-жи N. Кризис на Балканах заставил Азефа в интересах биржевых дел вернуться в Берлин, но жил он здесь в отелях, на холостую ногу и по другим паспортам… Только к осени 1913 г. он рискнул вновь обосноваться более прочно.
Более жестокие испытания несла Азефу война. Он имел неосторожность если не все, то большую часть своих денег держать в русских бумагах, а потому объявление войны и последовавшее запрещение котировать русские бумаги на берлинской бирже было для него настоящей финансовой катастрофой. Он потерял почти все. Не на что было существовать, и на смену жизни «сплошного пикника» шли думы о хлебе насущном.
Азеф сделал попытку бороться. Собрав, что было можно из остатков, а также продав часть драгоценностей г-жи N., он открыл на имя последней модную корсетную мастерскую. Азеф мобилизовал все свои практические способности и фактически вел всю коммерческую сторону дела. Даже позднее, уже из тюрьмы, он старался руководить в этом отношении г-жею N., давая указания, что и сколько покупать и пр. Курьезно читать в его тюремных письмах почти философские рассуждения о том, что следует увеличивать число корсетов малых размеров, ибо война грозит затянуться, и дамы, сидя на тощей диете, будут все больше и больше худеть. Во всяком случае, мастерская пошла и давала возможность существовать.
Но удар августа 1914 г. был только прелюдией к удару июня 1915 г.
Г-жа N вспоминает, что вернувшись как то летом, «на второй год войны», Азеф пенял на себя за то, что нелегкая его дернула зайти в какое-то кафе на Фридрихштрассе, где он столкнулся с кем-то, кто знал его как Азефа. Азеф был прямо подавлен:
— Он узнал меня и теперь будет плохо….
Весь вечер сидел и разбирал свои бумаги. Многое жег.
Опасения оправдались. На следующий день, вспоминает г-жа N, — из документов мы знаем, что это было 12 июня 1915 г., — они возвращались вместе из города: жили они в это время в районе Гогенцол-лерндамм. Едва они поднялись из вокзала подземной дороги, как и ним подошел какой то приличие одетый господин и предупредительно отогнул борт своего пиджака: там висел маленький бронзовый жетон уголовной полиции… Лишних слов сказано не было. Азеф покорно пошел за ним следом. Для него начались тюремные мытарства, — первые в его жизни.
Условия заключения были нелегки. Он сидел при полицей-президиуме, в строгом одиночном заключении, в сырой холодной камере. До конца октября 1915 г. не было света. Потом дали газовую лампу, — но разрешали пользоваться только до 8 час. вечера. Свиданий не давали. С воли приходили тяжелые известия: рушились остатки материального существования, наседали кредиторы, должники отказывались платить.
Угнетающе действовала и полная неизвестность. В начале еще жила надежда на быстрое освобождение, но время шло, лето сменилось осенью, началась зима, а никакого движения дело не получало. Азеф бомбардировал полицию своими заявлениями. Полагая, что его арестовали в связи с его прежней полицейской службой, он настойчиво доказывал, что уже давно порвал всякие сношения с русской полицией. 22 ноября 1915 г. «в полном отчаянии» он подал заявление на имя самого полицей-президента с просьбой «рассмотреть его дело и за полной невиновностью освободить.» Из ответа на это прошение, переданного ему устно полицейским советником Рербергом, Азеф к большому своему недоумению узнал, что в тюрьме его держат не как агента русского правительства, а как опасного революционера, анархиста и террориста, который на основании международных полицейских конвенций подлежит по окончании войны выдаче России.
Против этого обвинения Азеф восстал со всей энергией оскорбленной невинности. Сначала в устных объяснениях, затем в обстоятельной записке он доказывал, что всегда был только верным агентом правительства, действовавшим под контролем своего полицейского начальства, и что сам Столыпин выдал ему аттестацию о безупречной полицейской службе. Эти оправдания не убедили полицей-президиума, который еще в конце 1916 г., в справке об Азефе, выданной испанскому консульству, называл его «без сомнения анархистом и при этом приверженцем террористического направления».
Но облегчения условий тюремного содержания Азефу все же добиться удалось. Одно время стоял вопрос о переводе его в лагеря гражданских пленных, но от этого перевода Азеф в конце концов сам отказался: он просил, чтобы его поместили в лагерь таких пленных не русской национальности; полиция объявила это абсолютно исключенным, заявила, что он может быть переведен только в русский лагерь, где будет содержаться обязательно под его настоящей фамилией, и что в этом случае администрация лагеря не берет на себя ограждать его от возможных оскорблений со стороны других заключенных.
Эта перспектива была настолько мало утешительна, что Азеф предпочел остаться в тюрьме, выдав при этом расписку, что делает это по своей доброй воле. Зато в тюрьме он получил ряд льгот. Ему были разрешены свидания, чтение газет, его ежедневно отпускали в город на два часа, — для прогулок, покупок и пр.
Это было лучшее время его тюремного заключения, но тянулось оно очень недолго. Вскоре Азеф захворал и был переведен в больницу при моабитской тюрьме. Здесь Азефа содержали в строгом одиночном заключении, все время на запоре. О двухчасовых прогулках по городу не могло быть и речи. «Почти по неделям ни с кем не могу перемолвиться словом», — жаловался Азеф и готов был перевестись в лагерь гражданских пленных, — даже на тех условиях, которые ставил полицией-президиум. Но теперь ему в этом было отказано, — со ссылкой на его собственную подписку, выданную за несколько месяцев перед тем, и Азефу до конца 1917 г., когда он был освобожден, пришлось жить в тюремной больнице.
Все это влияло на настроение Азефа, изменения которого можно проследить по его многочисленным письмам к г-же N. Он, конечно, все время взволнован и угнетен, но в начале еще имеет силы играть определенную роль: рисовать себя в определенном свете, ставить себе определенные цели в области воздействия на своих читателей. Таковых было два: г-жа N. и тот чиновник полицей-президиума, который вел дело Азефа и который по долгу службы перечитывал все его письма. Оба эти читателя представляли для Азефа большой интерес и их обоих он имеет в виду при писании своих писем.
В начале его больше всего беспокоила г-жа N. Ее письма к нему были полны горьких жалоб на судьбу. Она совсем не привыкла к подобным испытаниям, и очень похоже, что первое время Азеф сильно опасался, как бы она не бросила его: ведь давать ей он теперь уже ничего не мог, — наоборот, жили они на средства, вырученные от продажи ее драгоценностей. Для Азефа же удержать ее было делом в высшей степени важным: помимо того, что он был к ней по своему искренне привязан, она была ведь действительно единственным человеком, который у него оставался в мире. Поэтому первая забота, которая сквозит из его ранних тюремных писем, — это забота об удержании г-жи N. В каждом письме он долбит ей о своей к ней любви и о том, как тревожит его ее положение. С заботливым вниманием он относится ко всем мелочам, которые имеют отношение к ней, дает советы, указания, учит ее житейской мудрости.
Так как ничего конкретного для помощи ей он предложить не может, то он учит ее христианскому терпению. Его письма в это время пестрят «богом». «Бог даст», «с божьей помощью» и т. п. выражения встречаются почти на каждом шагу. И это не простое употребление привычного слова, в каковом смысле «бог» встречается изредка и в его более ранних письмах. Нет, теперь «бог» в письмах Азефа неотъемлемая часть его обширных рассуждений в духе христианского смиреномудрия. Себя он рисует верующим человеком, который со смирением принимает обрушившееся на его голову несчастие, — почти современным Иовом на гноище, — и готов благодарить бога, который несчастиями просветил и очистил его душу.