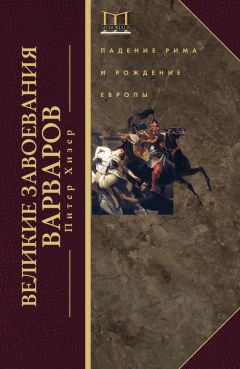Ошибочная идентичность?
Первая проблема проистекает из следующего факта. На радостях признав, что люди далеко не всегда образуют организованные поселения, которые самовоспроизводятся и закрыты для чужаков (и, я полагаю, преисполнившись решимости навсегда изгнать мерзостные учения нацистской эры), историки и археологи, специализирующиеся на 1-м тысячелетии и. э., нередко принимали лишь половину представлений об идентичности, бытовавших в социально-научной литературе их времени. Пока Лич, Барт и другие сосредотачивали свое внимание на групповом поведении и наблюдении за тем, как индивидуумы меняют свою приверженность той или иной культуре с выгодой для себя, вторая группа ученых принялась более пристально наблюдать за индивидуальным поведением человека. Их иногда называли примордиалистами, поскольку они утверждали, что групповая принадлежность всегда являлась неотъемлемой частью человеческого поведения. Некоторые из этих исследователей пришли к иным выводам, нежели предложенные Личем и Бартом, – они показали, что в ряде случаев врожденным чувством групповой идентичности нельзя манипулировать по своей прихоти, оно заставляет индивидуума соблюдать определенные правила поведения, которые могут противоречить его нынешним интересам. Различия во внешности, речи (будь то язык или диалект), социальном укладе, моральных ценностях и понимании прошлого могут – если они уже появились и закрепились – образовать непреодолимую преграду, не позволяя индивидуумам прикрепиться к другой группе даже ради улучшения своего положения[23].
Две ветви исследований иногда считали противоречащими друг другу, но, на мой взгляд, это не так. На самом деле они определяют противоположные концы спектра возможных положений. В зависимости от конкретных обстоятельств, и не в последнюю очередь прошлого, наследуемая групповая идентичность может являться более или менее сдерживающим фактором для индивидуума и представлять собой более или менее настойчивое побуждение к действию. И это утверждение четко соответствует наблюдаемой действительности. Что касается вопроса о групповой идентичности больших сообществ… Скажем, в современных дискуссиях о Европейском союзе риторика, обращенная к британцам, задевает куда более чувствительную струну в жителях Соединенного Королевства, нежели пролюксембургская – в люксембуржцах, которые мирно существуют, уютно расположившись между Германией, Францией и Бельгией. Различается идентичность и на индивидуальном уровне – отдельные члены любой многочисленной общности демонстрируют явные различия в степени своей преданности ей. Принимая тот факт, что групповая идентичность играет иногда большую, иногда меньшую роль в жизни людей, мы никоим образом, я подчеркиваю, не противоречим тому, о чем говорил Барт (даже если он счел бы, что это так). Его знаменитое положение звучит так: идентичность необходимо понимать как «ситуационный конструкт». Это вполне справедливо, однако тут важно помнить о том, что ситуации могут быть разными. Отчасти на Барта повлияла старая марксистская догма: любая идентичность, не основанная на классовом делении (а групповая идентичность не может быть таковой, если только каждый член такой группы не обладает одинаковым статусом), должна считаться «ложным сознанием», а отчасти – резко негативная реакция на мир, в котором преобладали националистские идеологии. Он обращал особое внимание – и проявлял большой интерес – к ситуациям, порождающим ослабление чувства групповой принадлежности. Однако даже построение его собственного высказывания подспудно намекает на то, что могут быть и иные ситуации, которые порождают более сильное чувство общности, и так называемые ученые-примордиалисты исследовали некоторые из них.
Два совершенно разных типа сдерживающих факторов могут сыграть роль барьеров. С одной стороны, существуют неформальные границы «нормального», и не важно, говорим ли мы о еде, одежде или даже моральных ценностях. Исследования показывают, что индивидуум усваивает многие такие характеристики, определяющие социальную группу как таковую, в ранние годы жизни, что, разумеется, помогает объяснить, почему они порой оказывают столь сильное влияние на человека, заставляя его чувствовать себя так некомфортно вне норм его собственного общества, что он попросту не способен жить в ином. С другой стороны (и этот фактор нередко идет рука об руку с ощущением дискомфорта), могут существовать и более формальные преграды, мешающие сменить идентичность. Теоретически вы можете объявлять себя принадлежащим к какой угодно группе, но это еще не означает, что она признает вас своим членом. В современном мире членство в социуме обычно подразумевает наличие соответствующего паспорта, следовательно, первостепенное значение для вас приобретает возможность или невозможность выполнить это условие и обзавестись им. В прошлом, разумеется, паспорта не существовали, однако некоторые древние сообщества тщательно следили за своим составом. Права на римское гражданство, к примеру, ревниво оберегались, и бюрократический аппарат был создан в том числе для того, чтобы отслеживать притязания индивидуумов иного происхождения. Греческие города-государства ранее применяли схожую стратегию. Такие бюрократические методы опирались прежде всего на грамотность, однако нет никаких причин, по которым у неграмотных сообществ не могло быть своих методов отслеживания группового членства при определенных обстоятельствах. Существует и такое явление, как степень группового членства. В Америке и Германии в современном мире есть более и менее официально признанные группы иностранных рабочих, которые наделяются далеко не всеми гражданскими правами, и здесь, по-моему, лежит ключ к полноценному пониманию феномена групповой идентичности. Когда полное членство в сообществе приносит преимущества либо юридического, либо материального характера – например, полезные права и привилегии, – следует ожидать, что оно будет тщательно контролироваться[24].
Получается, выводы, которые можно сделать из дебатов относительно идентичности, более сложны, чем представлялось ранее. У индивидуумов, рожденных в любых условиях, кроме самых простых, групповая идентичность наслаивается постепенно. Семья, более дальние родственники, город, край, страна, затем современные международные связи (вроде гражданства ЕС) вкупе с его собственными решениями – желанием, к примеру, жить в другом месте – все это дает индивидууму возможность стать членом более крупного сообщества. Однако любые притязания, которые могут быть у него или нее, должны быть признаны, и, в зависимости от ситуации, потенциальная принадлежность к другой группе может налагать на ее нового члена более или менее серьезные ограничения. В сущности, знаменитый афоризм Барта подчеркивает контраст, которого нет. Любого рода групповая идентичность – это и есть «ситуационный конструкт», они создаются, они меняются, они могут вообще прекратить свое существование, но одни более «недолговечны», чем другие.
Из этого следует первая потенциальная проблема современных подходов к переселению народов в 1-м тысячелетии. Они заранее убеждены, что идентичность, свойственная многочисленной группе, – явление слабое, но это неполное понимание проблемы идентичности и самосознания. Если позиция по ней принимается заранее, априори – и не важно, считается ли идентичность сильной (как в националистскую эпоху) или слабой (как в современном, еще не до конца сложившемся дискурсе), – то все доказательства иных мнений будут игнорироваться или оспариваться. На мой взгляд, крайне важно сохранять готовность переосмыслить свидетельства переселения народов в 1-м тысячелетии, не исходя из тезиса о том, что связь индивидуумов в больших группах, участвовавших в нем, непременно должна была быть очень непрочной, как предполагает современное однобокое понимание проблемы идентичности.
Вторая проблема появляется, когда яростное отрицание миграции как возможной причины глубинных перемен, которым грешат отдельные англоязычные археологи, вступает в противоречие с археологической рефлексией переселения, следы которого нередко встречаются на практике. В современном мире массовое передвижение целых социальных групп отнюдь не редкое явление, и, как мы увидим в следующих главах, оно имело место и в изучаемом периоде. Зато почти нет доказательств этнических чисток, якобы происходивших тогда. В таком случае переселение народов почти всегда включало в себя передвижение части группы из пункта А в пункт Б, причем как минимум часть коренного населения оставалась на месте; единственное исключение – Исландия, которая вовсе не была заселена до прихода туда норвежцев в IX веке. Вот почему вряд ли удастся обнаружить полное перемещение всей материальной культуры. Скорее лишь отдельные ее элементы будут перенесены в пункт Б, вероятно те, которые обладают определенной важностью для подгруппы населения, непосредственно вовлеченной в процесс миграции. В то же время какая-то (возможно, даже большая) часть коренной материальной культуры пункта Б продолжит свое существование, и в результате взаимодействия мигрантов и исконного населения могут появиться совершенно новые элементы культуры или предметы быта. Археологическая трактовка многочисленных миграционных процессов 1-го тысячелетия, другими словами, зачастую будет откровенно противоречивой и сомнительной, поскольку невозможно, основываясь лишь на материальных остатках, быть абсолютно уверенным в том, что миграция действительно имела место[25].