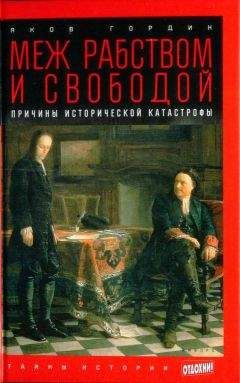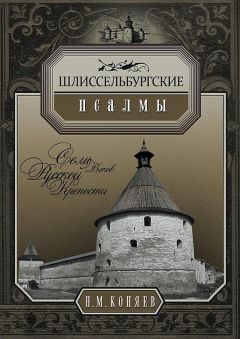В ноябре тот же Лефорт ужасался:
Стараясь понять состояние этого государства, убеждаешься, что его положение с каждым днем делается непонятнее. Можно было бы сравнить его с кораблем, предоставленным на произвол судьбы. Буря готова разразиться, а кормчий и все матросы опьянели или заснули. Огромное судно несется, и никто не думает о будущем. Каждый покидает кормило и остается в бездействии, тогда как следовало бы работать, имея в виду грядущие поколения; действительно, можно подумать, что все на этом судне ждут только сильной бури, чтоб при первом несчастий воспользоваться пожитками корабля.
Разумеется, им было непонятно происходящее. Они не могли понять той страшной усталости, которая наступает от многолетнего перенапряжения сил страны. А. усталость порождает безответственность, отталкивание от чувства долга, требующего нового напряжения сил. Они не могли понять отвращения, которое испытывали самые разные слои и группы русских к военно-бюрократическому монстру, который их заставили создать. Стремительный распад и гибель этого монстра, которая и в самом деле могла привести к катастрофическим последствиям и для страны, не воспринимались очень многими как несчастье. Отвращение и обида пересиливали политический рационализм.
Царствование Петра II — странное, дикое, но крайне показательное время.
"Восшествие на престол Петра II удовлетворяло огромное большинство в народе", — писал С. М. Соловьев. Это и понятно — воцарение законного наследника, сына любимого "чернью" Алексея, разрядило само по себе психологическое напряжение в стране.
Но у народа были и другие основания для довольства: неразбериха в управлении, полное равнодушие первых лиц в государстве — царя и нескольких Долгоруких — к тому, что происходило на просторах России вне поля их зрения, пресечение внешнеполитической активности, сокращение армии и флота — все это принесло народу явное облегчение. Налоги уменьшились, рекрутов не требовали, и, стало быть, увеличивалось число рабочих рук.
Но облегчение, основанное на развале государства, не могло быть долговременным и сулило в будущем еще большие тяготы и опасности.
А распад подступал к повседневному быту. В апреле 1729 года в Москве — в Немецкой слободе — начался пожар. Опираясь на свидетельства иностранных дипломатов, Соловьев воспроизвел событие, ни при Петре I, ни даже при Екатерине I совершенно немыслимое: "…в полчаса пламя обхватило уже шесть или восемь домов. Гвардейские солдаты с топорами в руках прибежали на пожар и стали, как бешеные, врываться в дома и грабить, грозя топорами хозяевам, когда те хотели защитить свое добро, и все это происходило перед глазами офицеров, которые не могли ничего сделать"[52].
Если петровские гвардейцы, славные своей дисциплинированностью и верностью долгу, вышли из повиновения и повели себя как заурядные грабители, значит, стали рваться те связи, на которых держалась петровская система.
Грабеж остановило только появление Петра II, распорядившегося найти и арестовать грабителей. Но замешанными в разбое оказались именно те гвардейские гренадеры, которыми командовал фаворит — князь Иван Долгорукий. И дело замяли. Поскольку сам фаворит вел себя по-разбойничьи, не опасаясь наказания, то неудивительно, что его подчиненные постепенно усваивали эту вольготную манеру общественного поведения.
Несмотря на меры, принятые Тайным советом, направленные на облегчение жизни народа, все напряженнее становились социальные взаимоотношения в стране. Постепенное истончение любого рода "сдержек" — в разных сферах и на разных уровнях общественного существования, — отсутствие естественных регуляторов поведения приводили к тому, что хаотическое насилие, как простейшая и сиюминутно эффективная форма решения конфликтов, стало охватывать Россию. Разбой теперь оказывается заметным фактором в общеполитической игре. В 1728 году помещики Южной России сообщали в челобитной Верховному тайному совету, что в Пензенском уезде за последние годы поселилось "много набродного народа, с 5 тыс. человек, и живут в горах, и в земляных избах, и в лачугах". Но беглецы, очевидно не склонные уходить за границу, не склонны были и мирно влачить жалкое свое существование. Ситуация менялась. Этот "набродный народ", объединяясь в разбойничьи ватаги до двух сотен человек, "домы многих помещиков разбивают, и села и деревни разоряют и пожигают, и самих помещиков, и жен их, и детей мучительски пытают, и огнем жгут, и ругательным смертям предают".
В Совет доносили, что в Алатырском уезде разбойники напали на село Пряшево, принадлежащее князю Куракину, убили приказчика, сожгли более двухсот дворов и две церкви. (Нападение на церкви и ограбление их вообще было и в XVIII, и в XIX веке явлением частым.) Вооруженная ружьями и пушками разбойничья ватага собиралась штурмовать и сам Алатырь. Верховный тайный совет распорядился послать против "набродного народа" кавалерийские части с генерал-майором или полковником во главе.
"Разбойничье движение", как мы увидим, постепенно нарастало, пока взаимная враждебность сословий, социально-политических групп, массы населения и военно-бюрократического аппарата не взорвалась гражданской войной — пугачевщиной.
Через сто с лишним лет, в стабильные 1830-е годы, отчеты Министерства внутренних дел свидетельствуют о ежегодных убийствах помещиков во всех губерниях. Социального мира в России не было вообще. Была ложная стабильность — насильственное замирение народа машиной подавления. И если в 1839 году шеф политической полиции граф Бенкендорф в официальном докладе императору назвал крепостное право "пороховым погребом под государством", то можно с уверенностью сказать, что на этом пороховом погребе страна жила непрерывно с петровских времен, ибо уже существующее крепостное право было усугублено именно тогда до степени рабства, отягощено безжалостной фискальной политикой, а крестьянин лишен прямой связи с государством и гражданского правосознания.
Положение дел к концу 1720-х годов было таково, что необходимость кардинальных перемен ясна стала любому думающему человеку.
Перемены эти могли реализоваться в двух направлениях. Те государственные мужи, чьи мечтания олицетворяла доктрина Остермана и Феофана Прокоповича, считали, что следует восстановить петровскую систему железного контроля, усовершенствовав и модернизировав ее, и сильной рукой регулировать жизнь страны. Те, кто понимал пагубность петровской модели, те, кто, как князь Дмитрий Михайлович Голицын, желали истинной европеизации, думали о структуре, органически соединявшей все сословные и социальные группы, основанной на постепенной гармонизации интересов. Они ориентировались как на прошлое России — Земские соборы, Боярскую думу, традиции сословного государства, — так и на свежий европейский опыт.
Все понимали, что приближается кризис. Понимали это и Долгорукие, судорожно пытавшиеся закрепить свое положение женитьбой юного императора на сестре фаворита.
Это были напрасные мечты. Для того или иного разрешения кризиса требовались люди совсем иного ранга, чем фаворит и его отец. В такие моменты сочетание человеческих воль, образующих поле исторического напряжения, складывается — при кажущейся хаотичности — в предельно четкий рисунок и сталкивает людей, сконцентрировавших в своих программах ведущие тенденции эпохи. Эти тенденции могут быть оформлены с разной степенью ясности. Но вектор каждой из них ощутим с роковой определенностью.
В Москве в домах и на улицах слышны были только речи об английской конституции и правах парламента.
Маньян. 1730 г.
О РОЛИ ЛИЧНОСТИ В ИСТОРИИ
В январе 1730 года пятнадцатилетний император Петр II заболел оспой, к тому же простудился на охоте, и 18 января стало ясно, что он умирает. В начале первого часа ночи на 19-е число началась агония. Император закричал: "Запрягайте сани, я еду к сестре!" — и скончался. Сестра, к которой он собирался ехать, умерла незадолго до того.
С этой ночи в продолжение пяти недель в России происходили события, по своему подспудному смыслу мало с чем в нашей истории сравнимые. И поразительной особенностью пятинедельной драмы было то, что столкнул лавину, запустил действие, ход которого "возбудил великие надежды", а финал отравил будущее на столетия вперед, действие, в которое вовлечены оказались тысячи людей из вельможества и шляхетства, один человек… Все что угодно могло произойти в те дни — кровавая междоусобица или полюбовный компромисс. Но князь Дмитрий Михайлович Голицын уговорил Верховный тайный совет отдать трон вдовой племяннице Петра Великого, курляндской герцогине Анне Иоанновне, и, произнеся роковые слова: "Воля ваша, кого изволите, только надобно нам себе полегчить", — создал ситуацию в русской истории небывалую.