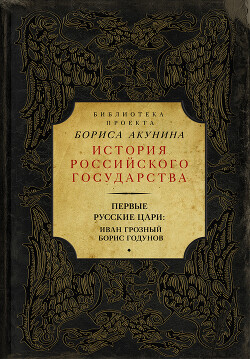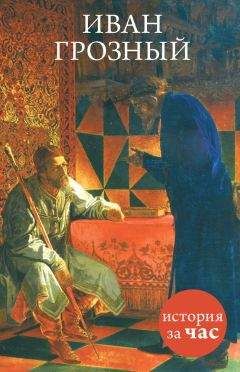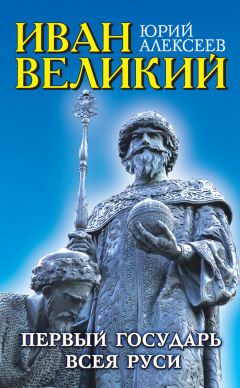Готхард Кетлер – первый герцог Курляндии и Семигалии
Полоцк. Вид на Собор св. Софии
В начале 1563 года сам царь двинулся с войском к Полоцку. В городе начальствовал королевский воевода Довойна. Замечая, вероятно, в народе сочувствие к московскому государю, он приказал сжечь посад и выгнал из него холопов, или так называемую чернь, т. е. простой тамошний русский народ. Эти холопы перебежали в русский лагерь и указали большой склад запасов, сохраняемых в лесу, в ямах. Овладевши этим складом, московское войско приступило к замку, и вскоре от стрельбы произошел там пожар. Тогда Довойна, в совете с полоцким епископом Гарабурдою, решились отдаться московскому царю. Находившиеся в городе поляки под предводительством Вершхлейского упорно защищались, наконец сдались, когда московский государь обещал выпустить их с имуществом.
15 февраля 1563 года Иван въехал в Полоцк, именовал себя великим князем полоцким и милостиво отпустил поляков в числе пятисот человек с женами и детьми, одарил их собольими шубами, но ограбил полоцкого воеводу и епископа и отправил их в Москву пленными с другими литовцами. Иван не упустил здесь случая потешиться кровопролитием и приказал перетопить всех иудеев с их семьями в Двине.
Тогда же, по приказанию Ивана, татары перебили в Полоцке всех бернардинских монахов. Все латинские церкви были разорены. Царь оставил в Полоцке воеводой Петра Шуйского с товарищами, приказал укреплять город и не впускать в него литовских людей, но дозволил последним жить на посаде, находясь под судом воевод, которые должны были творить суд, применяясь к местным обычаям.
Царь Иван, сообразно своему характеру, тотчас же возгордился до чрезвычайности этой важной, но легко доставшейся победой, и, в переговорах с литовскими послами, искавшими примирения, по прежнему обычаю, запрашивал и Киева, и Волыни, и Галича; потом великодушно уступал эти земли, ограничиваясь требованием себе Полоцка и Ливонии, и чванился своим мнимым происхождением от Пруса, небывалого брата римского Цезаря Августа.
Примирение надолго не состоялось; война продолжалась, но шла очень вяло, так что несколько лет ни с той ни с другой стороны не произошло ничего замечательного. Между тем произошли события, подействовавшие на Ивана и усилившие его кровожадные наклонности. Раздраженный против бояр, сторонников Адашева и Сильвестра, он боялся измены от всех тех, кого подозревал в дружбе со своими прежними опекунами. Ему казалось, что, за невозможностью овладеть снова царем, они перейдут к Сигизмунду-Августу или к крымскому хану или же будут в соумышлении с врагами действовать во вред царю.
При такой подозрительности царь брал с них поручные записи в том, чтобы служить верно государю и его детям, не искать другого государя и не отъезжать в Литву и иные государства. Подобные записи взяты были еще в 1561 году с князя Василия Глинского, с бояр: князя Ивана Мстиславского, Василия Михайлова, Ивана Петрова, Федора Умного, князя Андрея Телятевского, князя Петра Горенского, Данила Романова и Андрея Васильева. Всего замечательнее дошедшие до нас поручные записи князя Ивана Димитриевича Бельского.
В марте 1562 года царь заставил за него поручиться множество знатных лиц, с обязанностью уплатить 10 000 рублей в случае его измены, а в апреле 1563 года с этого же боярина взята новая запись, в которой он сознается, что преступил крестное целование, ссылался с Сигизмундом-Августом и хотел бежать к нему. Едва ли Бельский справедливо показал на себя; едва ли бы Иван мог простить такую измену, которую не простил бы и более добрый государь!
Судя по тому, что делалось и после, вероятно, в угоду подозрительному и жадному Ивану, боярин сам наговорил на себя, а поручники поплатились за него; царь же простил его, зная, что он не виноват. Подобная запись взята была с князя Александра Ивановича Воротынского, и в числе поручителей был обвиненный Иван Димитриевич Бельский: но за самых поручителей Воротынского, в случае несостоятельности в уплате за него 15 000 рублей, взята еще запись с разных других лиц в качестве поручителей за поручителей. Подозрительность и злоба царя естественно усилились, когда произошли случаи действительного, а не только воображаемого отъезда в Литву.
Портрет Андрея Курбского
Князь Димитрий Вишневецкий, прибывший в Московское государство с целью громить Крым, увидел, что цель его не достигается, ушел к Сигизмунду-Августу и примирился с ним. Иван притворялся, будто это бегство нимало его не тревожило, и в наказе своему гонцу велел говорить в Литве, когда спросят про князя Вишневецкого: «Притек он к нашему государю, как собака, и утек, как собака, и нашему государю и земле не причинил он никакого убытка». Но тогда же царь приказал разведывать о Вишневецком под рукою.
В то же время бежали в Литву Алексей и Гаврило Черкасские. Царь так был занят их отъездом, что стороною разведывал, не захотят ли они опять воротиться, и обещал им милость. Все это показывает, как сильно тревожила его мысль о побегах из его государства. Более всего подействовало на Ивана бегство князя Курбского. Этот боярин, один из самых даровитых и влиятельных членов адашевского кружка, начальствуя войском в Ливонии, в конце 1563 года бежал из Дерпта в город Вольмар, занятый тогда литовцами, и отдался королю Сигизмунду-Августу, который принял его ласково, дал ему в поместье город Ковель и другие имения. Поводом к этому бегству было (как можно заключить из слов Курбского и самого Ивана) то, что Иван глубоко ненавидел этого друга Адашевых, взваливал на него подозрение в смерти жены своей Анастасии, ожидал от него тайных злоумышлений, всякого противодействия своей власти, и искал только случая, чтобы погубить его. Курбский не ограничился бегством, но посылал из нового отечества к царю укоризненные, едкие письма, дразнил его, а царь писал ему длинные ответы, и хотя называл в них Курбского «собакою», но старался оправдать перед ним свои поступки.
Переписка эта представляет драгоценный материал, объясняющий более, чем все другое, характер царя Ивана. Поступок Курбского, но более всего его письма и невозможность наказать «беглого раба» за дерзость довели раздражительного и подозрительного царя до высшей степени злости и тиранства, граничившего уже с потерею рассудка.
В 1564–1565 годах царь продолжал брать поручные записи со своих бояр в том, чтобы они не бегали в Литву, а между тем происходили новые побеги; бежали уже не одни знатные люди. Убежали в Литву первые московские типографы: Иван Федоров и Петр Мстиславец; бежали многие дворяне и дети боярские, между прочим, Тетерин и Сарыхозин. Последние написали дерптскому наместнику боярину Морозову замечательное письмо, показывающее, какие перемены в тогдашнем управлении возбуждали неудовольствие. Поставляя на вид боярам, что царь плохо ценит их службу и окружает себя новыми людьми, дьяками, Тетерин говорит: «Твое юрьевское наместничество не лучше моего Тимохина невольного чернечества (т. е., что Тетерин был также неволей пострижен в монахи, как Морозов посажен наместником), тебя государь жалует так, как турецкий султан Молдавского: жену у тебя взял в заклад, а дохода тебе не сказал ни пула (мелкая монета), повелел еще 2000 занять себе на еду, а заплатить-то нечем; невежливо сказать: чай не очень тебе верят. Есть у великого князя новые верники, дьяки: они его половиной кормят, а большую половину себе берут. Их отцы вашим отцам и в холопство не годились, а ныне не только землею владеют, а и головами вашими торгуют. Бог, видно, у вас ум отнял, что вы за жен и детей и вотчины головы свои кладете, а их губите, а себе все-таки не пособите! Смею, государь, спросить: каково тем, у кого мужей и отцов различною смертью побили неправедно?..» Действительно, это была эпоха, когда значение породы уступало сильно значению службы. Из сословия детей боярских выдвигались прежде называемые дети боярские дворовые и стали называться дворянами: они составляли высший слой между детьми боярскими и скоро образовали отдельное сословие. Их значение состояло в относительной близости к царю; в звание дворян возводились из детей боярских по царской милости. Дьяки, прежде занимавшиеся письмоводством под начальством бояр и окольничьих, стали важными людьми: царь доверял им более, чем родовитым людям.