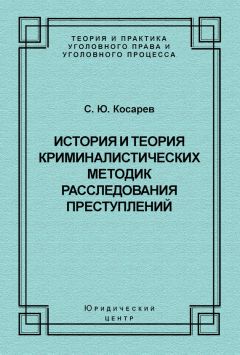Ознакомительная версия.
— Давай оставим коляску во дворе, а ребенка положим в кроватку, — предлагаю Вике.
Не соглашается:
— Ребенок начальника ждет свою маму на улице — она поедет ним гулять в парк.
Мысль о парке понравилась: в парке соорудим качели, карусели, детский городок. Размечталась и не заметила, что дети стали ерзать. Значит, устали и надо поиграть с ними — запустить наконец наш поезд. Сколько можно есть в столовой и ждать в зале жидания! Архитектура дома станционного смотрителя — типичное Ар-Нуво. Наверное, из-за натиска декора. Очень смешно смотрится дом станционного смотрителя на фоне безалаберной станции. Что ж, каков хозяин — лентяй и соня, — таково и его хозяйство. Для него махину отгрохали, а он спит и нет ему дела до железной дороги!
Но если вернуться к подсознательному, то последнее время я все чаще оказываюсь с детьми на железнодорожной станции. Наверное, потому, что мечтаю о путешествии — сесть бы в поезд, разложить на столике жареную курицу с помидорами, посыпать кушанье солью из спичечного коробка, помешивать ложкой жидкий чай в стакане и ехать-ехать, все равно куда.
Творчество замученных детей не подлежит художественному анализу. По крайней мере я не берусь за такой труд.
Фридл Диккер-Брандейсова была художницей. В концлагере Терезин стала учителем рисования. В каталоге «Рисунки детей концлагеря Терезин» сказано, что Фридл «создала педагогическую систему душевной реабилитации детей посредством рисования».
С уцелевшими в Терезине детьми в сорок четвертом году Фридл была депортирована в Освенцим. То, что она вложила в детей, гибло вместе с ними в душегубке.
Маленький садик,
Розы благоухают.
Узенькая тропинка,
Мальчик по ней гуляет.
Маленький мальчик похож
На нерасцветшую розу,
Когда роза расцветет,
Мальчика уже не будет.
Каково было Фридл читать стихи Франтишка Басса, смотреть на его рисунок, где по тропинке меж холмов возвращается Франтишек к своему дому, в навеки утраченное детство. Нет, оно не прошло, Франтишек еще мал, у него собрали детство. Отобрали, а он все равно возвращается туда, к себе домой, нарисованный мальчик в нарисованную деревню.
«Зима. Терезинские улицы совсем под снегом, который от сильного мороза уже мерзлый. Гуляю медленно по тротуару и слежу за жизнью на улице. Вот попался на глаза старик, приблизительно восьмидесятилетний, с белыми волосами и белой бородой. Если судить по походке, у него вид сорокалетнего. Он шел быстро с миской еды в руке. Но вдруг поскользнулся на обледенелом тротуаре. Он упал головой прямо на мостовую и остался лежать» — записывает в детском подпольном журнале шестнадцатилетний Герберт Фишер, Дон-Герберто.
Дети искали выход. С увиденным невозможно смириться, его надо как-то осознать или хотя бы просто зафиксировать. Так возник детский подпольный журнал в Терезине.
Дети знали, что идут на смертельный риск, знали и их учителя. Но писать стихи и рассказы не отговаривали.
Обучение детей в концлагере строго-настрого воспрещалось. Не было запрета только на рисование.
«…Почти все малые арестанты рисовали. Собрание четырех тысяч рисунков стало самым известным, хорошо сохранившимся и потрясающим наследием замученных терезинских детей» (из каталога).
Стать учителем в мире, обреченном на гибель, — страшная участь.
Фридл была с детьми, не покинула их до последнего мгновения. Чему она их учила? Какова была созданная ею система «психической реабилитации детей с помощью рисования»? Как оценить качество изображения тарелки с кашей и людей с желтыми звездами, несущих носилки с мертвым по зимнему Терезину? Можно ли вообще обучать детей чему-либо в нечеловеческих условиях?
И дети ли они после всего увиденного?
Я был ребенком,
С тех пор прошло три года.
Ребенок тот мечтал о сказочных мирах.
Теперь я не ребенок,
Я видел смерть в глазах…
Это стихи Гануша Гахенбурга. Он погиб в Освенциме пятнадцатилетним.
Там в море садов и счастливых лет
Мама произвела меня на свет,
Чтобы я плакал.
Слезы — это увеличительные стекла. Глядя сквозь них на рисунки, я вижу Фридл. Вернее, ее присутствие на рисованных листах.
…За белой лошадью черный человек с черной тачкой. Лошадь движется вдоль реки по зеленому лугу. На горизонте — горы. Это аппликация Хельги Поллаковой. Но где здесь Фридл?
Увеличительные стекла слез перемещаются по цветной репродукции. А вот и Фридл. Она подсказала Хельге, что зелено-коричневая гамма требует контрастных акцентов. Поначалу лошадь была коричневой (край коричневой бумаги виден из-под белой) и сливалась с фоном. Но композиция требовала белого пятна, и Хельга согласилась с учительницей.
Соня Шпицева хотела нарисовать крыши домов на своей улице. Пасмурный день, над одной крышей — шпиль ратуши. Поначалу Соня принялась рисовать по сухой бумаге (сохранилась одна неразмытая линия с боку дома), но Фридл научила девочку: «Чтобы вышло «пасмурно», надо писать акварелью по мокрому листу, тогда очертания размоются и будет казаться, что воздух влажный, как твоя кисть».
Возможно, все было вовсе и не так.
Есть черта, которую не переступить воображению. Мы не можемвоссоздать реальную картину: маленькая, коротко остриженная Фридл со своими ученицами, теперь тоже остриженными, голыми, идет в газовую камеру. У душегубки мы застываем. Свидетелей нет. Повествовать о том, как Фридл корчилась в агонии рядом с Соней Шпицевой, невозможно. Это — запредельное, хотя случилось в пределах исторического времени с миллионами.
Нам дан страшный урок. Мы не можем, не имеем права жить так, как жили до него. Вопрос «За что?» — риторический. На него нет ответа. Но коли получен в наследство такой опыт, его надо осмыслить.
Зачем Фридл в голоде, холоде, страхе обучала детей приемам композиции? Зачем изобретала для них постановки из скудной барачной утвари? Зачем знакомила их с законами цветовой преференции? Зачем после каждого урока раскладывала подписанные детьми работы по папкам? Зачем, спрашивается, это было нужно Фридл, когда транспорты смерти, один за другим, увозили детей «на Восток» — в Освенцим?
…На желтых бланках концлагеря, где расписание работы терезинской бани соседствует с указами по режиму, растут цветы, порхают бабочки, улыбается мама, но и лежат убитые, смотрят голодные глаза в пустые миски — судьбы тысяч детей. Благодаря Фридл они стали и нашими судьбами.
Я имела удовольствие целый год бок о бок проработать с одним преподавателем по живописи, назову его Химичевым. Он был на хорошем счету, его опыт советовали перенимать и внедрять. И никого не удивляло, что ученики покидают класс Химичева в каком-то растерянном, подавленном состоянии. С живописи дети приходили ко мне, на лепку. После недельной обработки детей было не узнать. Прежде смелые, отчаянные выдумщики, они в нерешительности глядели на глину и ждали моих указаний. Что с ними там делают? Я решилась войти в соседний класс во время урока. И вот что я увидела: родители сидят рядом с детьми, все время их погоняют, только и слышно: макай скорее кисть, рисуй, ты же видел сейчас ветку, дядя показывал, ветка должна быть… Сжавшись, ребенок неуверенно проводит линию, но тут родитель, обнаруживший, что у соседнего мальчика уже все готово (там мать приложила руку), выхватывает у своего дитяти кисть и завершает задание. Потому что программа урока напряженная, надо много успеть. Иначе — задание на дом.
Химичев обожал природу. Любить природу — не предосудительно. Перед началом занятии, чтобы вдохновить детей, он показывал слайды. Все как один должны были вдохновиться и, как только включат свет, быстро пустить в дело скопившееся во тьме вдохновение.
Увидел — отрази! Любитель природы, Химичев попирал законы. Таким методам позавидовал бы сам Трофим Денисович Лысенко, у которого тоже все вызревало и поспевало до срока. Простая мысль, что дети — часть природы, а природа не спринтер и времена года не срываются с дистанции по выстрелу из ружья, не приходила Химичеву на ум. Наверное, он не задумывался над этим. Его целью был немедленный результат. О чем размышлять? Все показано. Рисуем ромашку — серединку желтой краской, лепестки беленькие, стебель зеленый. Только ромашку. Колокольчики сегодня никто не рисует, это тема следующего урока. Вообразить себе, что какой-то ребенок не хочет рисовать ни ромашек, ни колокольчиков, невозможно. Это урок, а не самодеятельность.
Слово «самодеятельность» было самым бранным в лексиконе Химичева. Педагогов студии он распекал именно за самодеятельность. Собрав нас в кабинете директора, разумеется, при начальстве, он отчитывал нас за отсутствие профессионализма. Главным нашим грехом было то, что мы не воспитываем в детях чувство патриотизма через любовь к природе и родному краю. Еще Химичев был одержим великой идеей: все дети должны ходить в студию со значками на груди, на них должны быть имя, фамилия, номер группы студиозуса. Иначе, убеждал нас маэстро, невозможно запомнить всех учеников. Но мы помнили и без значков не только имена детей, но и другие, с точки зрения Химичева, излишние подробности жизни. Директору идея Химичева понравилась: детишки под номерами, и все любят природу. Только вот если бы вообще без детей, без студии, тогда еще проще организовать учебный процесс. В конце концов почему этой мелюзгой должна ведать школа искусств? Есть детские сады, там эстетическое воспитание более уместно. Студию упразднили, Химичев стал завучем художественного отделения, откуда он вскоре выжил самых талантливых педагогов.
Ознакомительная версия.