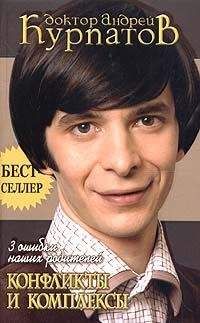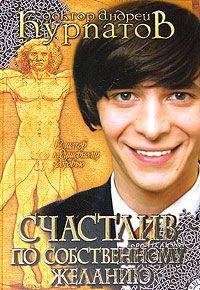Ксения снова появилась у меня на приеме. Выслушав ее рассказ, я поинтересовался, считает ли она, как и прежде, что ее состояние никак не связано с ее отношениями с матерью? Теперь она переменила свое мнение, и мы могли довести начатое до конца. Все эти годы Ксения не могла простить матери ее нелюбовь. Она протестовала, жила ей наперекор, а когда возникла такая возможность — стала жить самостоятельно. Возвращение матери в жизнь Ксении пробудило в ней прежние комплексы и страхи, а болезнь тогда пришла ей «на выручку».
Узнав от своей сводной сестры обстоятельства развода своих родителей, Ксения поняла (или почувствовала), в каком состоянии находилась ее мать, поняла (или почувствовала), почему она развелась с ее отцом. И, наконец, Ксения осознала, что причина такого отношения к ней матери не в нелюбви, как она раньше думала, а в том стрессе, который тогда, почти тридцать лет тому назад, переживала эта женщина. Но все же она не была готова проявить по отношению к ней подлинное сочувствие, да и не могла еще в полной мере простить матери ту боль, которую переживала, будучи ребенком.
Конечно, оптимальным вариантом решения было бы сблизить этих женщин. Помочь им понять друг друга и те обстоятельства, в которых они в свое время и каждая по своему оказались. Однако это не представлялось возможным. Мать Ксении была уже пожилым человеком, считала себя «кругом правой» и не думала, что дочь заслуживает какого-либо снисхождения. Поэтому весь этот путь Ксении предстояло пройти одной. Так, к сожалению, бывает достаточно часто.
Да, наши родители поступают так, как они поступают; в какой-то момент жизни мы и наше душевное состояние не являются для них главным приоритетом. Они решают свои проблемы, мучаются своей болью и заставляют своих ничего не ведающих об этом детей страдать и думать, что их не любят. Иногда родители способны нанести и вовсе тяжелейшую травму своим детям, и случай с «жабой» — это, поверьте, далеко не худший вариант. Но мы или примем своих родителей такими, какие они есть, со всем их «добром», или будем ждать, что они в какой-то момент «все поймут, изменятся и все исправят».
Разумеется, нам не хватает «беспричинной» матертскш любви и когда мы вырастаем. Большинство детей имеют возможность насладиться материнской любовью. Взрослому же человеку реализовать свою потребность в безоговорочной материнской любви намного сложнее.
Эрих Фромм
К счастью, Ксении хватило сил и мужества пережить всю эту боль, простить свою мать и самой полюбить ее — такой, какой она была. В конечном счете, других родителей у нас нет, а мы нуждаемся в том, чтобы жить, не держа на них зла — той бессильной злобы, которую они зачастую формируют в нас своими бездумными, а подчас и просто жестокими действиями.
Экскурсия на Олимп
Родители пока продолжают оставаться божествами, но их репутация серьезно подорвана. Из единого и всемогущественного бога они превращаются в жителей Олимпа — их много, они разные, кто-то важнее, кто-то не так важен, и главное — каждый из них решает свои собственные проблемы. У Яхве (Иеговы, Саваофа и т. д.) — того единого бога, каким были для ребенка его родители (в особенности — мать), кажется, не было никаких проблем. Малыш лишь смутно о них догадывался, когда ощущал материнское напряжение, ее растерянность, страх или раздражение. Теперь же, когда отец стал Зевсом, а мать — Герой, все это, прежде скрытое, вышло наружу. Оказалось, что проблем у них предостаточно, причем и между собой, и с их родителями (Кроно-сами, Геями и т. п.), то есть с нашими бабушками и дедушками.
До трех лет мы ощущали себя центром Вселенной, пупом земли, и нам просто в голову не приходило тревожиться. «Все возможно!» — мы жили этим лозунгом. Но после трех лет мы вмиг оказались «тварью дрожащей», человеком, чьи права и возможности не только ограничены, но и требуют одобрения цензурой. Многие дети, правда, отчаянно протестуют, но теперь у родителей есть новый инструмент — «наказание». Раньше, как мы уже сказали, была дрессировка и страх. Нас пугали, причем часто мало задумываясь о том, чем для нас оборачивался этот испуг.
Дело в том, что когда трехлетнему ребенку говорят, что за ту или иную провинность его отдадут «дяденьке-милиционеру», малыша это действительно пугает — ведь он еще не сомневается в честности своих родителей[6] . Подтекст, подвох, скрытый смысл родительских слов и, наконец, откровенный обман он начинает подозревать и понимать позже — в три-четыре года. И если он слышит ту же фразу в этом возрасте, она не вызывает того прежнего на миг парализующего испуга, она его озадачивает и оскорбляет.
Но особенным, изощренным оскорблением является для ребенка наказание. То, что его начали наказывать, это ребенок понял, но смог ли он понять смысл наказания? Разумеется, эта премудрость взрослых находится за гранью его понимания. «А и за что меня наказывать? Мне понравилось это, и я взял. Мне захотелось пойти туда, и я пошел. Мне не хочется есть, и я не ем. Что такого?!» С появлением в языке ребенка оборотов «я», «мне», «мое» и пр. в нем появляется личность, а следовательно, и возможность наказания. Возникает адресат — тот, кто может быть наказан. Ведь наказание — это не дрессировка, это обращение к личности.
Наказание — это воспитательная процедура: «Ты должен понять, что так делать не нельзя!», «Тебе должно быть стыдно!», «Постой в углу и подумай!» И если ребенок не почувствовал себя униженным, оскорбленным или, на худой конец, насмерть испуганным, родитель не считает, что воспитательный маневр достиг желаемого эффекта. Да и сами родители, когда наказывали нас, по большей части руководствовались не воспитательными целями, а потребностью выместить собственное раздражение и отомстить нам за наше непослушание.
Причем каким-то шестым чувством, холкой, может быть, мы стали чувствовать, что наказание — это способ, которым родители вымещают на нас свои эмоции. Мы стали понимать, что это месть, а вовсе не «воспитание», о чем наши родители так любили нам рассказывать: «Я на тебя не сержусь, но я наказываю тебя, чтобы ты понял, что так поступать нехорошо!» Ха-ха! Так мы и поверили! Львиная доля информации, которую мы получали тогда из внешней среды, была информацией визуальной, акустической, тактильной, и лишь считанные проценты — вербальной. Проще говоря, смысл слов доходил до нас в последнюю очередь, а вот прищуренные глаза, сдвинутые к переносице брови, сжатые челюсти и кулаки, наконец, высокие ноты в голосе — это было для нас неоспоримым аргументом.
Мать или отец говорили нам: «Я люблю тебя! Ты мне дорог! Я делаю это ради тебя!» Но это ничего не значило, ведь мы видели, как при этом гневом горят их глаза, дергается изогнутая бровь, предательски дрожит и хрипит от напряжения голосовых связок голос, брызгает слюна, а руки сжимают нас до синяков. И то, что именно они говорили, не имело для нас в этот момент ровным счетом никакого значения. Мы видели разгневанного зверя и понимали, что нас ненавидят, что нам мстят, что нас наказывают... Все это мы поняли, может быть, и не так обстоятельно, чтобы сделать из этого понимания какой-нибудь философический трактат, но суть уловили точно!
Но как же мы поняли? Как догадались?! Как тогда, в эти наши считанные годы, мы смогли это понять?! Все дело в уже упомянутых мною олимпийских разборках или тайнах мадридского двора (это кому как будет угодно). Не знаю, что думали в этот момент наши родители, но, производя над нами свои экзекуции, они объясняли нам множество разных, весьма интересных вещей...
Кому-то из нас говорили, что так себя вести нельзя, потому что «папа будет недоволен». Кто-то из нас слышал: «Что мы. теперь скажем маме?» Ну и, конечно, самые примечательные — подробные объяснения: «Не веди себя так при бабушке!
Родители уверены, что поскольку они делают для всех детей одни и те же вещи, то можно ожидать от них одних и тех же результатов. Они упускают из виду тот факт, что делать-то они делают, но в том, как они это делают, как раз и состоит разница между принятием и отверждением. Большая часть родителей неспособна или не имеет желания увидеть, насколько важны их бессознательные позиции, к которым так чувствителен ребенок.
Александр Лоуэн
Разве ты не знаешь, что она этого не любит?!», или «Только не говори об этом папе, а то он рассердится!», или «Скажи дедушке, что ты его любишь, а то он обижается!»
Тут, впрочем, возможен еще, наверное, миллион других самых разнообразных вариантов, но главная суть — нас включили в систему «олимпийских разборок». Мы стали понимать, что от нас ждут какого-то определенного поведения, и не потому, что нужно само это поведение, не потому, что это поведение является «правильным», а потому, что это нужно для достижения каких-то определенных целей. Не наших целей, а тех, кто нам их объяснял.