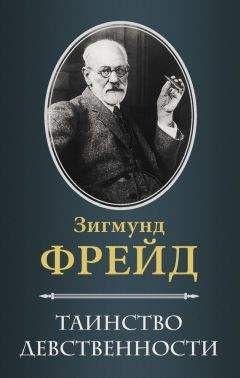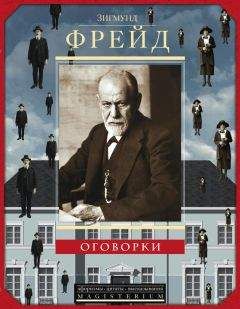и смягченного ставить первоначальное и коренное; и добавим: в своей воспитательной деятельности врач использует какой-то элемент
любви. При таком довоспитании он, видимо, всего лишь повторяет процесс, который делает возможным и первоначальное воспитание. Наряду с реальной необходимостью, любовь является великой воспитательницей; любовь самых близких побуждает недовоспитанного человека обращать внимание на веления необходимости и избегать наказаний за их нарушение.
Если же от больного требуют временного отказа от удовлетворения того или иного желания, жертвы, готовности на время перенести страдания ради лучшего будущего или даже требуют простого решения подчиниться признаваемой всеми необходимости, то наталкиваются на отдельных людей, которые противятся подобным требованиям исходя из своеобразной мотивировки. Они говорят, что достаточно настрадались и натерпелись и теперь претендуют на то, чтобы избавиться от дальнейших требований, больше не желают подчиняться неприятной необходимости, так как они являются исключением и намерены таковыми оставаться. У одного из подобных больных эта претензия переросла в убеждение, что о нем печется особое Провидение, которое охраняет его от такого рода мучительных жертв. Против внутренней уверенности, проявляющейся с подобной силой, аргументы врача бессильны, да и его влияние поначалу дает осечку, поэтому он обращается к поиску источников, питающих это вредное предубеждение.
Тут, пожалуй, не вызывает сомнений, что каждому хотелось бы считать себя исключением и претендовать на преимущества перед другими людьми. Но именно поэтому необходимо особое, не всегда имеющееся обоснование, если больной в самом деле объявляет себя исключением и соответственно ведет себя. Видимо, существует ряд таких обоснований; в исследованных мною случаях удалось показать общую особенность прежней судьбы больных: их неврозы происходят из относящихся к первым годам детства переживаний или недугов, которые они считали незаслуженными и могли расценивать как несправедливый ущерб их персоне. Преимущества, которые они выводили из этой несправедливости, и следующее отсюда непослушание немало содействовали обострению конфликта, позднее приводящего к возникновению невроза. У одной из подобных пациенток данная жизненная установка возникла, когда она узнала, что мучительное заболевание организма, мешавшее ей достигнуть цели в жизни, наследственного происхождения. Она терпеливо переносила болезнь, пока считала ее случайным и поздним приобретением. После выяснения ее врожденного характера она взбунтовалась. Молодой человек, считавший, что его хранит особое Провидение, будучи грудным младенцем, стал жертвой случайной инфекции, занесенной ему кормилицей; и всю последующую жизнь он питался претензиями на вознаграждение и оплату за этот несчастный случай, не подозревая, на чем основываются его претензии. В данном случае психоанализ, реконструировавший такой вывод по смутным остаткам воспоминаний и путем толкования симптомов, был объективно подтвержден рассказами членов его семьи.
По вполне понятным причинам не могу здесь подробнее рассказывать об этой и некоторых других историях болезни, я не буду также вдаваться в напрашивающуюся аналогию между аномалиями характера после многолетней детской болезненности и поведением целых народов с мучительным прошлым. И напротив, я не могу отказать себе в желании сослаться здесь на образ, созданный величайшим художником, – образ, в характере которого претензии на исключительность очень тесно связаны с моментом врожденной ущербности и мотивированы им.
Глостер, будущий король, говорит во вступительном монологе к «Ричарду III» Шекспира:
Я, сделанный небрежно, кое-как
И в мир живых отправленный до срока
Таким уродливым, таким увечным,
Что лают псы, когда я прохожу, —
Чем я займусь в столь сладостное время,
На что досуг свой мирный буду тратить?
Стоять на солнце, любоваться тенью
Да о своем уродстве рассуждать?
Нет! Раз не вышел из меня любовник,
Достойный сих времен благословенных,
То надлежит мне сделаться злодеем,
Прокляв забавы наших праздных дней.
Я сплел силки: умелым толкованьем
Снов, вздорных слухов, пьяной болтовни
Я ненависть смертельную разжег
Меж братом Кларенсом и королем.
(Перевод М. Донского)
Возможно, на первый взгляд связь этой программной речи с нашей темой незаметна. Кажется, Ричард всего лишь говорит: мне скучно в это праздное время и я хочу развлекаться; но так как из-за моего уродства я не могу заниматься любовью, то стану злодеем, буду интриговать, убивать и делать все, что придет в голову. Но столь легкомысленная мотивировка должна была бы задушить малейшие признаки сочувствия в зрителе, не скрывайся за ней нечто более серьезное. Но тогда и вся пьеса была бы психологически несостоятельной, так как художник обязан создать у нас скрытую подоснову для симпатии к своему герою, чтобы вынудить нас без внутреннего протеста воздать должное его смелости и искусности, а такая симпатия может основываться только на понимании, на ощущении допустимой внутренней общности с героем.
Поэтому я думаю, что в монологе Ричарда высказано не все; он лишь намекает и предоставляет нам возможность разгадать эти намеки. Но когда мы совершим такое восполнение, то оттенок легкомыслия исчезает и вступают в свои права горечь и обстоятельность, с которыми Ричард описывал собственную уродливость, и проясняется общность, заставляющая нас симпатизировать даже злодею. Тогда его монолог означает: природа учинила жестокую несправедливость по отношению ко мне, отказав в благообразии, которое обеспечивает человеческую любовь. Жизнь обязана мне за это вознаграждением, которое я возьму сам. Я претендую на то, чтобы быть исключением и не обращать внимания на опасения, стесняющие других людей. Я вправе творить даже несправедливость, ибо несправедливость была совершена со мною, – и тут мы чувствуем, что сами могли бы стать похожими на Ричарда, более того, мы уже и стали им, только в уменьшенном виде. Ричард – гигантское преувеличение этой одной черты, которую мы находим и в себе. По нашему мнению, у нас есть полное основание возненавидеть природу и судьбу за нанесенные от рождения или в детстве обиды, мы требуем полного вознаграждения за давние оскорбления нашего нарциссизма, нашего себялюбия. Почему природа не подарила нам золотых кудрей Бальдера или силы Зигфрида, высокого чела гения или благородного профиля аристократа? Почему мы вместо королевского замка родились в мещанском жилище? Нам превосходно удалось бы быть красивыми и знатными, как все те, кому теперь мы вынуждены завидовать.
Но в том и состоит тонкое психоэкономическое искусство художника, что он не позволяет своему герою громко и откровенно высказывать все тайны своего решения. Тем самым он вынуждает нас дополнять его, дает пищу нашей умственной деятельности, отвлекает ее от критицизма и заставляет идентифицировать себя с героем. На его месте писака выложил бы все, что он хочет сообщить нам в обдуманных словах, а затем обнаружил бы перед собой наш холодный, свободно двигающийся интеллект, не желающий углубляться в его иллюзии.
Но мы не хотим закончить с «исключениями»,