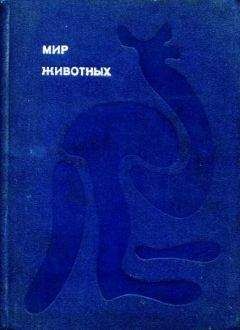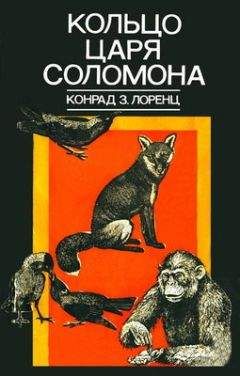Даже когда человек знает о чисто случайном возникновении какой-либо привычки и прекрасно понимает, что ее нарушение не представляет ровно никакой опасности - как в примере с моими автомобильными маршрутами, возбуждение, бесспорно связанное со страхом, вынуждает все-таки придерживаться ее, и мало-помалу отшлифованное таким образом поведение превращается в "любимую" привычку. До сих пор, как мы видим, у животных и у человека все обстоит совершенно одинаково. Но когда человек уже не сам приобретает привычку, а получает ее от своих родителей, от своей культуры, - здесь начинает звучать новая и важная нота. Во-первых, теперь он уже не знает, какие причины привели к появлению данных правил; благочестивый еврей или мусульманин испытывают отвращение к свинине, не имея понятия, что его законодатель ввел на нее суровый запрет из-за опасности трихинеллеза. А во-вторых, удаленность во времени и обаяние мифа придают фигуре Отца-Законодателя такое величие, что все его предписания кажутся божественными, а их нарушение превращается в грех.
В культуре североамериканских индейцев возникла прекрасная церемония умиротворения, которая увлекла мою фантазию, когда я еще сам играл в индейцев:
курение калюмета, трубки мира. Впоследствии, когда я больше узнал об эволюционном возникновении врожденных ритуалов, об их значении для торможения агрессии и, главное, о поразительных аналогиях между филогенетическим и культурным возникновением символов, у меня однажды, словно живая, вдруг возникла перед глазами сцена, которая должна была произойти, когда впервые два индейца стали из врагов друзьями из-за того, что вместе раскурили трубку.
Пятнистый Волк и Крапчатый Орел, боевые вожди двух соседних племен сиу, оба старые и опытные воины, слегка уставшие убивать, решили предпринять малоупотребительную до этого попытку: они хотят попробовать договориться о правах охоты на вот этом острове, что омывается маленькой Бобровой речкой, разделяющей охотничьи угодья их племен, вместо того чтобы сразу браться за томагавки. Это предприятие с самого начала несколько тягостно, поскольку можно опасаться, что готовность к переговорам будет расценена как трусость. Потому, когда они наконец встречаются, оставив позади свою свиту и оружие, - оба они чрезвычайно смущены; но ни один не смеет признаться в этом даже себе, а уж тем более другому. И вот они идут друг другу навстречу с подчеркнуто гордой, даже вызывающей осанкой, сурово смотрят друг на друга, усаживаются со всем возможным достоинством... А потом, в течение долгого времени, ничего не происходит, ровно ничего. Кто когда-нибудь вел переговоры с австрийским или баварским крестьянином о покупке или обмене земли или о другом подобном деле, тот знает: кто первым заговорил о предмете, ради которого происходит встреча, - тот уже наполовину проиграл. У индейцев должно быть так же; и трудно сказать, как долго те двое просидели так друг против друга.
Но если сидишь и не смеешь даже шевельнуть лицевым мускулом, чтобы не выдать своего волнения; если охотно сделал бы что-нибудь - много чего сделал бы! - но веские причины не допускают этих действий; короче говоря, в конфликтной ситуации часто большим облегчением бывает сделать что-то третье, что-то нейтральное, что не имеет ничего общего ни с одним из противоположных мотивов, а кроме того позволяет еще и показать свое равнодушие к ним обоим. В науке это называется смещенным действием, а в обиходном языке - жестом смущения. Все курильщики, кого я знаю, в случае внутреннего конфликта делают одно и то же: лезут в карман и закуривают свою трубку или сигарету. Могло ли быть иначе у того народа, который первым открыл табак, у которого мы научились курить?
Вот так Пятнистый Волк - или, быть может, то был Крапчатый Орел раскурил тогда свою трубку, которая в тот раз вовсе не была еще трубкой мира, и другой индеец сделал то же самое.
Кому он не знаком, этот божественный, расслабляющий катарсис курения? Оба вождя стали спокойнее, увереннее в себе, и эта разрядка привела к полному успеху переговоров. Быть может, уже при следующей встрече один из индейцев тотчас же раскурил свою трубку; быть может, когда-то позже один из них оказался без трубки, и другой - уже более расположенный к нему предложил свою, покурить вместе... А может быть, понадобилось бесчисленное повторение подобных происшествий, чтобы до общего сознания постепенно дошло, что индеец, курящий трубку, с гораздо большей вероятностью готов к соглашению, чем индеец без трубки. Возможно, прошли сотни лет, прежде чем символика совместного курения однозначно и надежно обозначила мир. Несомненно одно: то, что вначале было лишь жестом смущения, на протяжении поколений закрепилось в качестве ритуала, который связывал каждого индейца как закон. После совместно выкуренной трубки нападение становилось для него совершенно невозможным - в сущности, из-за тех же непреодолимых внутренних препятствий, которые заставляли лошадей Маргарет Альтман останавливаться на привычном месте бивака, а Мартину - бежать к окну.
Однако, выдвигая на первый план вынуждающее или запрещающее действие культурно-исторически возникших ритуалов, мы допустили бы чрезвычайную односторонность и даже проглядели бы существо дела. Хотя ритуал предписывается и освящается надличностным законом, обусловленным традицией и культурой, - он неизменно сохраняет характер любимой привычки; более того, его любят гораздо сильнее, в нем ощущают потребность еще большую, нежели в привычке, возникшей в течение лишь одной индивидуальной жизни. Именно в этой любви сокрыт смысл торжественности ритуальных движений и внешнего великолепия церемоний каждой культуры. Когда иконоборцы считают пышность ритуала не только несущественной, но даже вредной формальностью, отвлекающей от внутреннего углубления в Сущность, - они ошибаются. Одна из важнейших, если не самая важная функция, какую выполняют и культурно- и эволюционно возникшие ритуалы, состоит в том, что и те и другие действуют как самостоятельные, активные стимулы социального поведения. Если мы откровенно радуемся пестрым атрибутам какого-нибудь старого обычая например, украшая рождественскую елку и зажигая на ней свечи, - это значит, что традицию мы любим. Но от теплоты этого чувства зависит наша верность некоему символу и всему тому, что он представляет. Эта теплота чувства и придает для нас ценность плодам нашей культуры. Собственная жизнь этой культуры, создание какой-то общности, стоящей над отдельной личностью и более продолжительной, чем жизнь отдельного человека, - одним словом, все, что составляет подлинную человечность, основано именно на обособлении ритуала, превращающем его в автономный мотив человеческого поведения.
Образование ритуалов посредством традиций безусловно стояло у истоков человеческой культуры, так же как перед тем, на гораздо более низком уровне, филогенетическое образование ритуалов стояло у зарождения социальной жизни высших животных. Аналогии между этими ритуалами, которые мы обобщенно подчеркиваем, легко понять из требований, предъявляемых к ритуалам их общей функцией.
В обоих случаях какое-то действие, посредством которого вид или культурное сообщество преодолевает какие-то внешние обстоятельства, приобретает совершенно новую функцию - функцию сообщения. Первоначальное назначение таких действий может сохраняться и в дальнейшем, но часто оно отходит все дальше на задний план и в конечном итоге может исчезнуть совсем, так что происходит типичная смена функции. Из этого сообщения в свою очередь могут произойти две одинаково важных функции, каждая из которых в известной степени является и коммуникативной.
Первая - это направление агрессии в безопасное русло; вторая построение прочного союза, удерживающего вместе двух или большее число собратьев по виду. В обоих случаях селекционное давление новой функции производит аналогичные изменения формы первоначального, неритуализованного действия. Сведение множества разнообразных возможностей поведения к одному-единственному, жестко закрепленному действию, несомненно, уменьшает опасность двусмысленности сообщения. Та же цель может быть достигнута строгой фиксацией частоты и амплитуды определенной последовательности движений. Десмонд Моррис обнаружил это явление и назвал его "типичной интенсивностью" движения, служащего сигналом.
Жесты ухаживания или угрозы у животных дают множество примеров этой "типичной интенсивности"; столь же много таких примеров и в человеческих церемониях культурно-исторического происхождения. Ректор и деканы входят в актовый зал университета размеренным шагом; пение католических священников во время мессы в точности регламентировано литургическими правилами и по высоте, и по ритму, и по громкости. Сверх того, многократное повторение сообщения усиливает его однозначность; ритмическое повторение какого-либо движения характерно для многих ритуалов, как инстинктивных, так и культурного происхождения. Информативная ценность ритуализованных движений в обоих случаях еще усиливается утрированием всех тех элементов, которые уже в неритуализованной исходной форме передавали адресату оптический или акустический сигнал, в то время как другие элементы - механические редуцируются либо вовсе исключаются.