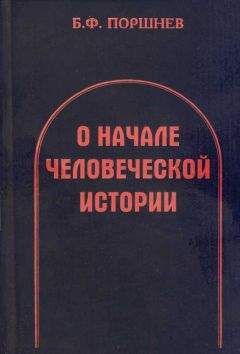Тут верно то, что историзм несовместим с религией. В человеке нет ничего константного, кроме анатомии и физиологии его тела (включая сюда, разумеется, и мозг), общих для всего вида Homo sapiens на всем протяжении его существования. Но специфика человека и состоит в том, что функционирование этой константной основы в ее высших проявлениях бесконечно видоизменяется, вплоть до превращения функций в собственную противоположность вместе с изменениями и превращениями общественно-исторических отношений. Мозг остается тем же, но независимо от каких-либо органических изменений не только содержание сознания, а и любые операции мозга могут быть глубоко качественно различны. Мозг — это такой рабочий механизм, функционирование которого возможно по совершенно различным и даже противоположным рабочим схемам. Многие нервно-психические заболевания вовсе не являются болезнями в узком смысле слова — не порождены ни инфекциями, ни органическими или химическими нарушениями в нервных тканях. При этом критерий различения нормы и патологии носит чисто общественно-исторический характер, так что иные явления, ныне относимые к психопатологии, еще в прошлые века нимало не считались болезнью, и наоборот, индивиды, сегодня признаваемые нами здоровыми, в прошлые века могли содержаться в заведениях для душевнобольных и преступников. Как именно мозг “нормально” функционирует — это определяет не природная среда, окружающая индивида, а человеческая, общественная среда. Это и значит, что высшая нервная деятельность человека подчинена принципу историзма.
Наука о социальной психологии и историческая паука не должны существовать друг без друга.
Основным вопросом исторического материализма является причинная зависимость между общественным бытием и сознанием.
Основополагающий тезис, что общественное бытие определяет сознание, — это неисчерпаемый по своему потенциальному богатству источник разработки новых и новых сторон науки об общественном развитии. Этот тезис должен быть всесторонне и полностью раскрыт не только с философской стороны, но и с конкретно-исторической: как именно, какими конкретными путями общественное бытие определяет сознание. Величайшая порочность экономического материализма состоит в претензии описать человеческую историю без всего субъективного. Между тем открытие марксизмом объективного требует не отбросить, а объяснить субъективное.
Социальная психология берется за изучение самой субъективной стороны субъективного. Это — исторически видоизменяющаяся психика людей.
Находим ли мы описание и анализ ее в сочинениях историков? Увы, ничтожно мало. А ведь история без психики — это история без живых людей. Это какая-то “обесчеловеченная” история. Например, в научных трудах по истории рабочего движения есть и экономическое положение рабочих, и статистические данные о их численности, есть сведения о стачках и об организациях, о рабочих партиях и программно-идеологической борьбе, — и все-таки недостаточно видно рабочих. Глубоко, до дна внутренний мир этих рабочих не раскрывается. В этом случае вместо исторического материализма получается что-то вроде бихевиоризма: изучение лишь внешнего поведения, без всякой “психологизации”.
Конечно, спорадически встречаются в сочинениях историков штрихи специфической психологии тех или иных групп, той или иной эпохи. Но, как правило, психологический анализ касается лишь отдельных исторических персонажей, и речь уж тут идет не о психологической науке, а о психологическом портрете.
Историки уже заметили отставание этой стороны их творчества.
Сказанное выше не означает, что в данной книге может быть изложена конкретная методика приложения социальной психологии к разнообразным конкретным темам исторической науки. К этому приведет лишь путь теоретических исканий.
Точно так же здесь не могут быть даны готовые рецепты использования социальной психологии в современной истории. Несомненно, что ее конечная задача — быть наукой высоко действенной, способствовать формированию нового человека — человека коммунизма. В конечном счете польза социальной психологии будет измеряться ее связью с жизнью, практикой строительства коммунизма. Это никак не исключает того, что ей нужен глубокий теоретический фундамент. Без закладки научной системы, без отработки простых элементов, исходных понятий, без относящихся к самому фундаменту обобщений эффект будет поверхностным. Нет хуже тех практиков, которые, спеша навстречу жизни, отмахиваются от копания в теории вопроса. Марксистско-ленинская социальная психология выполнит свои большие задачи в деле строительства коммунизма только в том случае, если она будет действовать как подлинная наука, а не “на глазок”.
Надо еще раз напомнить, что настоящая книга носит ограничительное заглавие: “Социальная психология и история”.
Историки сильно отстали в изучении психической стороны, субъективных аспектов описываемых ими массовых явлений. Лишь безнадежные “экономические материалисты” могут думать, что восполнение этого пробела привело бы к “психологизации” истории. Видеть реальность во всей ее полноте, познавать специфические закономерности отдельных уровней и сторон общественной жизни людей — требование подлинной исторической науки. Урок ленинских работ учит историков-ленинцев не пугаться жупела “психологизации”, а глубоко изучать как динамику общественных настроений, так и другие социально-психические факты.
Однако в конечном счете социальная психология, разрабатываемая психологами и историками применительно к прошедшим эпохам, — это гигантская лаборатория для познания и выверки тех понятий, которые нужны нам в современной общественной практике. Созидание коммунистических отношений, воспитание нового человека властно требуют не только текущих констатации и рекомендаций, но исследования фундаментальных проблем. Сложные субъективные краски общественной борьбы в странах капитализма, в молодых развивающихся странах тоже диктуют интерес к этим фундаментальным задачам психологической науки. Всем, кто хотел бы построить советскую науку о социальной психологии, “не слишком” углубляясь в теорию, надо напомнить: чем глубже фундамент, тем надежнее, тем выше может быть здание; чем глубже корни, тем щедрее ветви.
Автору остается добавить, что он остается несколько в стороне от основных направлений современной западной социальной психологии. Их довольно много, развиваемые идеи и методы разнообразны. Но автор полагает, что всех их объединяет один общий признак: эта отрасль западной психологии не может быть названа в полном смысле социальной. Объектом здесь являются все-таки не общества, не общности, а суммы индивидов. Предлагаемая книга — раздумья о возможности нащупать под ногами совсем другую тропу.
ГЛАВА ПЕРВАЯ. ЛЕНИНСКАЯ НАУКА РЕВОЛЮЦИИ И СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Вплотную к жизни
Перед революционером, перед коммунистом В.И. Ленин поставил двойную задачу: “Трезвость и бешеная страстность”.
Марксизм — это строго научное понимание законов и условий процессов общественной жизни. Это единство абстрактной теоретической мысли и самого конкретного знания. Вместе с тем марксизм — это мечта и страстность. Пламенность мечты и фантазии, бешеная страстность. “Надо мечтать! Написал я эти слова и испугался”, — шутил Ленин в “Что делать?” Он вообразил себе грозного социал-демократа, вопрошающего: “Имеет ли вообще право мечтать марксист, если он не забывает, что, по Марксу, человечество всегда ставит себе осуществимые задачи и что тактика есть процесс роста задач, растущих вместе с партией?”. От этих грозных вопросов, от которых у него мороз подирает по коже, Ленин “попробовал спрятаться” за цитату из Писарева, где речь идет о естественности и необходимости некоторого разрыва между действительностью и обгоняющей ее мечтой, ибо иначе невозможно даже представить, какая побудительная причина заставляла бы человека предпринимать и доводить до конца обширные и утомительные работы в искусстве, в науке или в практической жизни. “…Разлад между мечтою и действительностью, — писал Писарев, — не приносит никакого вреда, если только мечтающая личность серьезно верит в свою мечту, внимательно вглядывается в жизнь, сравнивает свои наблюдения с своими воздушными замками и вообще добросовестно работает над осуществлением своей фантазии. Когда есть какое-нибудь соприкосновение между мечтою и жизнью, тогда все обстоит благополучно”. И Ленин заключает уже со всей серьезностью: “Вот такого-то рода мечтаний, к несчастью, слишком мало в нашем движении”.
Тысячелетия человеческой культуры были осуществлениями тех фантазий, от которых с бешеной страстностью и трезвым учетом удавалось отыскать хотя бы самую мудреную и головоломную тропу в реальность. Остальные мечты терпели крушение. Со страстью и трезвостью, с упорством и настойчивостью всматривался и вдумывался ваятель или зодчий в естественные свойства камня, в его природные тайны, чтобы в них отыскать тропу к овеществлению своей грезы. Только тогда, впрочем, она и приобретала окончательно ясные очертания/Но насколько же грандиознее и труднее всех прочих творческих свершений людей осуществление замысла преобразовать до основания их общественную жизнь, а вместе с тем и их самих! Здесь требуется точное и ясное знание с самой разной “наводкой”: в объектив должны попасть как отвлеченнейшие экономические законы, так п все другие уровни приближения к конкретности, кончая живым биением человеческих чувств.