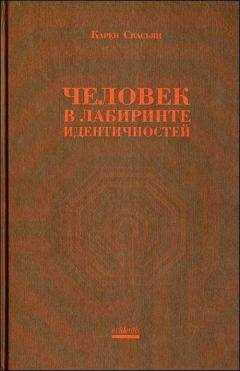Conclusio
1.
Подводя итоги, будем держаться не только респективной линии сказанного, но и проспективной линии еще не сказанного. Что, прежде всего, бросается в глаза в истории познания (самопознания) человека, так это его неадекватность·, человек искал объяснить себя либо через божественное, либо через животное, перемещаясь соответственно из теологии в зоологию, чтобы, в конце концов, быть забракованным и в той и в другой: как неудавшийся бог и как деградировавший зверь. Очевидным образом причины лежали в его неспособности мыслить единичное и индивидуальное не обобщенно, а как есть·, индивидуальное, как есть, могло восприниматься им только через органы чувств, но, чтобы понять его, он должен был подводить его под соответствующее понятие, и вот в этом — то подведении оно переставало быть, как есть, потому что понятие индивидуального так же мало отвечало непосредственно воспринятому индивидуальному, как карта местности самой местности. Этот врожденный порок мышления, с большей или меньшей степенью адекватности отвечающий специфике мира естествознания, полностью обнаружил свою несостоятельность, едва соприкоснувшись с самим человеком, как объектом мышления. Если понимание вещей означало подведение их воспринятой единичности и особенности под общее понятие, то с пониманием человека всё обстояло с точностью до наоборот. Понять, значило здесь проделать обратное: уместить общее в единичном и особенном, потому что существенное в человеке, его сущность, в отличие от таковой других вещей, совпадала с его индивидуальным и терялась в его общем. Оставалось либо, держась старой логики, познавать себя в своем «природном», поддающемся обобщению, то есть, в том, что у человека было общего с миром минерального (костная и мускульная система), растительного (силы роста, вообще жизни) и животного (ощущения, инстинкты), жертвуя при этом «человеческим», как таковым (Я, индивидуальность, биографичность). Либо создавать, каждый для себя, новую логику единичного, как бы логику алогичного, немыслимость которой начиналась бы уже с того, что речь шла бы в ней не об одной логике, а о множестве их, сообразно каждому несравнимому и несводимому содержанию. Человек, понятый биологически, как род, — один для всех людей, подобно тому как перворастение или первоживотное у Гёте — одно для всех растений и животных. Человек собственно, индивидуум, личность, начинается там, где кончается родовое, общее в нем, потому что, как человек, носитель Я-сознания, он есть, каждый сам себе, собственный род и собственное понятие. Разница между логическим «человеком» Иваном и логической «собакой» Жучкой в том, что Жучку определяет «собака», а «человека» Иван, то есть, Жучка, конечно, более логична, чем Иван, который ставит логику на голову, чтобы самому стоять на ногах. Не то, чтобы логике, во избежание несостоятельности, оставалось быть собачьей, но, определенно, человеческому в ней не было места. В «человеке» оба полюса, общее и единичное, с такой же неотвратимостью предполагают друг друга, с какой они в то же время друг друга отрицают. Разумеется, Иван — это «человек», а Жучка — это «собака», только свою «собачьесть» Жучка имеет от Ивана, а Иван свою «человечность» неведомо от кого. Прежде он думал: от Бога; потом, «после смерти Бога», стал заполнять вакансию призраками, вроде «трансцендентального субъекта» или «совокупности общественных отношений», пока, наконец, совсем не запутался в лабиринте собственных идентичностей.
2.
Вопрос преследует по всем правилам логически грамотного допроса: если понятийно мир вокруг человека свершается в человеке, то где же понятийно свершается сам человек? Можно сказать и так: если вещи мира становятся понятными в человеке и через человека, то в ком и через кого становится понятным сам человек? Очевидность ответа не решает проблему, а лишь усиливает её. Мы говорим: разумеется, в себе самом и через себя. Всё было бы в порядке, не споткнись это «разумеется» о новый вопрос: в каком конкретно «себе» и через какого конкретно «себя»? Вещи мы обобщаем в понятиях, то есть, мы понимаем их, только после того как получаем их в восприятии. Мы видим множество овец и подводим их под понятие «овца». Понятие «овца» осуществляется в нас, но принадлежит оно, разумеется, овцам. В самих овцах оно дано, конечно же, не непосредственно, как понятие, а в форме чувственного восприятия, которое через нас, нашу мысль, преображается в адекватную понятийную форму. Можно ли заключить отсюда, по аналогии, и к нам самим и воспроизвести тот же ход мысли на «человеке»? Сказать: мы видим множество самих себя (себе подобных) и подводим их под понятие «человек». Если да, то при условии, что мы не отличаемся от овец. Потому что наше, человечье, понятие (сущность), в отличие от овечьего, индивидуально·, соответственно: мыслить себя, как «человека», мы можем не раньше, чем найдя себя, и найдя, разумеется, не в ком — нибудь, а в себе. Но себя — то мы как раз не ищем, полагая, что нечего искать то, что есть. Что же есть? Очевидно, не то, о чем идет речь. Мы путаем биологическое, родовое, как основу нашей животности, с духовным, индивидуальным, которое, если есть, то лишь в той мере, в какой мы сами сознательно присутствуем при его возникновении. Конкретнее: есть человеческий мозг, как сложнейшая нейронная сеть, производящая электрохимические импульсы, и есть человеческая индивидуальность, отражающаяся и выражающаяся через мозг. Для развития органа мозга в совершенную систему и потребовались двадцать две ступени естественной истории творения. Человек на этом уровне вполне идентифицируем, как понятие, единое для всех особей вида, но сама возможность идентификации лежит в отсутствии индивидуальности. С появлением индивидуальности (Я) идентичность не исчезает, а мультиплицируется; возникает парадокс множества понятий, соответствующих каждому отдельному индивиду, но, поскольку и это множество мыслимо только по симметрии с единством, то открытым, таким образом, остается вопрос о некоем понятии понятий, раз уж каждая особь множества, будучи индивидуальной, и есть сама по себе понятие. Иначе и короче: понятие и сущность человека — это его Я, но говорить Я каждый может, только имея в виду самого себя. На фоне множества отдельных эмпирических Я возникает вопрос о понятии Я, как общем трансцендентальном Я, включающем все фактические. Очевидно, что это понятие Я не может быть добыто на манер обычного образования понятий, по той простой причине, что тут нечего обобщать. По аналогии: если мы говорим о растениях, которые объединены в Urpflanze, то, очевидно, что объединение осуществляется не самими растениями, а в точной фантазии Гёте, в которой растительный мир обретает нетленность. Гёте и есть сам (в эфирном, жизненном, или мысленном, теле) Urpflanze: растительный бог. Перенести эту процедуру на людей, значит объединить их в Ur‑Ich, некоем сверх-Я, трансцендентном существе (по аналогии с intellectus archetypus § 77 кантовской «Критики способности суждения»), которое синтетически мыслило бы себе подобных в их яйности, подобно тому как трансцендентный растительному миру человек Гёте мыслил растения в Urpflanze. Об этом и шла речь у средневековых докторов, чей безошибочный философский инстинкт вынуждал их обращаться к внемирному и внечеловеческому Богу — бытию, как создателю, носителю и гаранту яйности. Тот же инстинкт, но уже не в метафизических, а естественнонаучных и оттого менее благоприятных условиях (когда ссылаться на трансцендентное становилось всё труднее, если не невозможно), заставлял более поздних философов перемещать последнюю мировую инстанцию в сознание, то есть, иметь дело уже не с трансцендентным Я, а с трансцендентальным. Что они при этом упускали из виду, так это то крохотное, но фатальное обстоятельство, что трансцендентное бытие, как и трансцендентальное сознание, суть мысли, мыслимые ими самими, притом что «сами» они, философы, предпочитали оставаться в тени собственных творений в качестве инкогнито, и даже мотивировали эту страусиную политику соображениями «объективности». Когда пришло время расстаться и с этой уловкой, стало ясно: время западной философии, ухитрившейся уместиться в подстрочных примечаниях к Платону (Уайтхед),[106] прошло; надеяться и рассчитывать приходилось на иное и лучшее.
3.
В оппозиции дух — материя полагающим является дух, то есть, один из членов оппозиции. Дух, противопоставляя себя материи, делает это сверху вниз, назначая материи подчиненную, а то и вовсе негативную роль. Тем самым он лишь провоцирует будущий реванш материи и несет, таким образом, ответственность за материализм. Увиденные не в статике форм, а в динамике метаморфоза, материализм и атеизм Нового времени представляют собой трансформации средневекового спиритуализма и теизма. Рано или поздно, высокомерному духу, избегающему соприкосновения с телом, приходится сойти в него, как в гроб, и выдать себе свидетельство о собственной смерти. Но и тело, убив дух, затопляется снизу животными содержаниями, узурпирующими его человеческую форму. Настоящий, подлинный, дух — не дух и не тело, а дух и тело, как одно (или, говоря с оглядкой на пустой гроб 33 года, — как один). Потому что было бы непростительным легкомыслием принять сказанное за абстракцию и не попытаться представить его себе во всей его ошеломляющей фактичности. Абстракция уместна в случае того самого духа, который противопоставлен веществу; в его слиянности с веществом она невозможна и абсурдна. Дух абсолютно конкретен, как человек. Не мысль о человеке, а некто конкретный, живущий в мысли, как в теле. Разговор о человеке — после смерти большой философии и среди непристойного разгула её опустившихся наследников — и может вестись не иначе, как в линии визирования кого — то конкретного и фактического. In nomine hominis singularis Max Stirner! Человек — не вот этот вот, а вообще — внутренне и внешне недопустимая, нелепая абстракция, потому что выдумывать и думать её всё равно придется какому — нибудь вот этому вот. — Тем самым поле поиска сужается до того самого «игольного ушка», о котором уже шла речь выше и через которое, как сказано, легче пройдет верблюд, чем (логически, биологически, антропологически) измышленный человек. Скажем так: когда биолог определяет вид homo, он делает это по признакам, совокупность и специфическая конфигурация которых позволяет ему выделить искомое. Аналогичная процедура возможна и необходима и на двадцать третьей ступени. Только здесь уже она проводится с оглядкой не на возникновение человека, а на его назначение. По сути, вопрос: что есть человек? — адекватно прочитывается как: что может человек? Или целепола — гающе: чем он призван быть? Фихтевское «Die Bestimmung des Menschen» остается решающим топосом. Здесь коренится возможность рационально мыслимой судьбы, то есть, судьбы, очищенной от всех нарцисстически — эгоистических, лирических, мистических завалов и сведенной к сущностному, где она представляет собой уже не власть слепой случайности и не иррациональную неисповедимость какого — то капризного Бога, а цепь этапных эпикризов в становлении человека, каузированных его более поздней по времени осуществленностью. Человек — это назначение человека, а его судьба — буквально педагог, παιδαγωγός, который ведет (или тащит) его, мальчика, к осуществленному, совершенному себе, и разговор о человеке, начинающийся не с этой темы, заканчивается, сколь бы интересен он ни был в частностях и побочностях, так и не начавшись. Нет смысла спорить с теми, кто посчитает вопрос наивным или устаревшим. Кто, соответственно, привык оценивать книги не по их содержанию, а по дате их выхода в свет, досадным образом путая их с другими, более отвечающими этому критерию товарами. Как будто, если бессмертный ренановский «Аверроэс и аверроизм» датирован 1852 годом или, скажем, прекрасная книжечка философа и теолога Грабманна о Фоме 1912‑м, а какая — нибудь очередная компиляция на те же темы уже совсем близким к нам временем, это придает последней большую убедительность! Правда то, что тема назначение человека с невообразимой силой и остротой продумывается и проговаривается в эпоху Гёте, романтиков и немецкого идеализма. Об этом можно узнать из любого философского справочника. Чего нельзя узнать ни из какого справочника, так это того, что потребовались две мировые войны, чтобы полностью отбить от нее аппетит и поставить на её место комбикорм всякого рода «эдипов», «антиэдипов» и «батаев». Но — рукописи не горят, а смыслы беспрестанно несут вахту… Интересно в теме «назначение человека» то, что она дополняется, с другого конца, темой «происхождение человека». Дарвин и Геккель служат почвой и фундаментом немецкому идеализму, который, опираясь на эволюционизм, уже не упадает в абстрактные философские небеса, а осознает себя как продолженное и расширенное естествознание. Когда Гегелю указали однажды, что его натурфилософские спекуляции не соответствуют природе, он, как известно (se non è vero, è ben trovato), огрызнулся: тем хуже для природы. Это ответ старого закоренелого люциферика, который адекватнее чувствует себя в овидиевских «Метаморфозах», чем в гётевских. Новый дух, в продолженном и расширенном естествознании, уже не распоряжается миром природы с высоты своего платонического наднебесного места, а умирает в него, чтобы остаться в нем погребенным или проснуться, как понятая смерть.