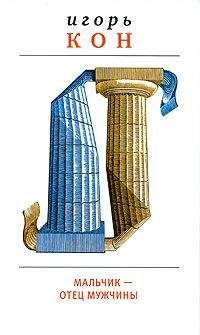Ознакомительная версия.
Вспоминая о своем пребывании в 1790-х годах в Морском корпусе, В. И. Штейнгель указывает на «господство гардемаринов и особенно старших в камерах над кадетами»: «Первые употребляли последних в услугу, как сущих своих дворовых людей: я сам, бывши кадетом, подавал старшему умываться, снимал сапоги, чистил платье, перестилал постель и помыкался на посылках с записочками… Иногда в зимнюю ночь босиком по галерее бежишь и не оглядываешься. Боже избави ослушаться! – прибьют до полусмерти. И все это, конечно, от призору наставников. Зато какая радость, какое счастие, когда произведут в гардемарины: тогда из крепостных становишься уже сам барином, и все повинуются!» (Записки В. И. Штейнгеля, 1981. С. 175).
«Первый год в училище, – вспоминал писатель Д. В. Григорович (1822–1899), учившийся в Главном инженерном училище в Петербурге, – был для меня сплошным терзанием… Представить трудно, чтобы в казенном, и притом военно-учебном, заведении могли укорениться и существовать обычаи, возможные разве в самом диком обществе». «В этой атмосфере… товарищи были суровее, беспощаднее, чем само начальство». Вновь принятых воспитанников («кондукторов») подвергали самым изощренным и изобретательным унижениям. Возмутившихся или прибегнувших к сопротивлению жестоко избивали, так что они порой оказывались после этого в лазарете. Новичков в училище называли «рябцами» (в другой транскрипции – «репцами»), словом, производным от «рябчика», как тогда военные называли штатских. Это презрение к штатским, «шпакам», «штафиркам» было общей чертой учащихся военно-учебных заведений и в значительной степени офицерского корпуса (Цит. по: Королев, 2003).
Будущий ученый и путешественник П. П. Семенов-Тян-Шанский (1827–1914), обучавшийся в 40-х годах XIX в. в школе гвардейских прапорщиков, писал: «С новичками обращались, унижая их достоинство: при всех возможных предлогах не только били их нещадно, но иногда прямо истязали, хотя и без звериной жестокости. Только один из воспитанников нашего класса, отличавшийся жестокостью, ходил с ремнем в руках, на котором был привязан большой ключ, и бил новичков этим ключом даже по голове. <…> У нас в школе, кроме упомянутых приставаний, с новичков еще брались поборы, т. е. их притеснители прямо заставляли привозить себе разные лакомства» (Семенов-Тян-Шанский, 1990. С. 468, 469).
С. Н. Глинка (1776–1847) вспоминает, что в их кадетском корпусе были «человек шесть силачей: они задирали и обижали слабых» (Цит. по: Кошелева, 2000. С. 296). Когда юный Глинка спрятал от них очередную жертву, до крови избили его самого.
Многие ритуалы были откровенно сексуальными. На I съезде офицеров – воспитателей кадетских корпусов в 1908 г. рассказывали, что «в одном из кадетских корпусов главари средней роты установили обычай подвергать младших товарищей периодическому циничному осмотру. Цинизм этих осмотров не знал пределов: один из главарей, например, обучил маленького кадета онанизму и заставлял его перед всеми предаваться этому пороку; на почве той деспотии товарищества, как это показало расследование в том же корпусе, выросли случаи педерастии». В другом корпусе в рекреационном зале днем под охраной собственных часовых собирались группы из 20–30 кадетов, и «там происходило демонстрирование онанизма, один кадет над другим проделывал гнусные манипуляции, а все остальные с любопытством смотрели на это зрелище. Дежурный офицер подходил к кадетам, заранее предупрежденным часовыми, и спрашивал их: чем они заняты? Те весело и бойко ему отвечали: "Мы играем, господин капитан, в новую игру: "Здравствуй, осел!" и "Прощай, осел!" Очень интересно!"» (Цит. по: Кащенко, 2003. С. 50, 124).
Весьма изощренным был «пук» в знаменитом Николаевском кавалерийском училище, где в свое время обучался М. Ю. Лермонтов. Младшие там именовались «зверями», старшие – «корнетами», а второгодники – «майорами». «Цук» был откровенным издевательством старших над младшими: от младших требовали не полагающегося юнкерам старших классов отдания чести; заставляли делать приседания, выть на луну; им давались оскорбительные прозвища; их многократно будили ночью и т. д.
Князь Владимир Сергеевич Трубецкой (1892–1937) рассказывал: «Бывало, если ночью старшему хотелось в уборную, он будил своего «зверя» и верхом на нем отправлялся за своей естественной нуждой… Если старшему не спалось, он нередко будил младшего и развлекался, заставляя последнего рассказывать похабный анекдот или же говорил ему: "Молодой, пулей назовите имя моей любимой женщины" или "Молодой, пулей назовите полчок, в который я выйду корнетом". В случае неправильного ответа старший тут же наказывал «зверя», заставляя его приседать на корточках подряд раз тридцать или сорок, приговаривая: "ать-два, ать-два, ать-два". Особенно любили заставлять приседать в сортире у печки». «Зверь» обращался к старшему юнкеру не иначе как «господин корнет». «Господа корнеты» беспощадно муштровали своих младших товарищей, бдительно следили за их поведением и внешним видом. Не в последнюю очередь благодаря этому николаевцы всегда отличались отменной выправкой. Видя в «дублении» молодых юнкеров дополнительный воспитательный фактор, училищное начальство относилось к «цуку» скорее одобрительно и если прямо его не поощряло, то в лучшем случае смотрело на цук сквозь пальцы. (Трубецкой, 1991. С. 81–82).
«Цук» существовал и в самом привилегированном военно-учебном заведении Российской империи – Пажеском корпусе. Князь П. А. Кропоткин (1842–1921) рассказывал, что старшие воспитанники, камер-пажи, «собирали ночью новичков в одну комнату и гоняли их в ночных сорочках по кругу, как лошадей в цирке. Одни камер-пажи стояли в круге, другие – вне его и гуттаперчевыми хлыстами беспощадно стегали мальчиков. «Цирк» обыкновенно заканчивался отвратительной оргией на восточный манер. Нравственные понятия, господствовавшие в то время, и разговоры, которые велись в корпусах по поводу «цирка», таковы, что чем меньше о них говорить, тем лучше».
Корпусное начальство все знало, но никаких мер не принимало: «Система полковника заключалась в том, что он предоставлял старшим воспитанникам полную свободу, он притворялся, что не знает даже о тех ужасах, которые они проделывают; зато через камер-пажей он поддерживал строгую дисциплину».
Конечно, это было против правил. После того, как однажды младшеклассники взбунтовались и побили старших, избиение хлыстами прекратилось. Тем не менее, «самый младший класс, состоявший из очень молодых мальчиков, только что поступивших в корпус, должен был подчиняться мелким капризам камер-пажей». За неповиновение били, стегали подтяжками и т. п. (Кропоткин, 1966. С. 104–106). Между тем в корпусе обучались выходцы из очень знатных аристократических семейств, их кандидатуры утверждал сам государь император.
Отношение к «цуку» в начальственных и офицерских кругах было противоречивым. У него было немало противников. Различные комиссии констатировали, что самыми ревностными блюстителями традиции «подтяжки» были самые слабые по своему умственному развитию, ничем не блещущие воспитанники. Но даже недвусмысленно выраженное неприятие «цука» некоторыми членами царской семьи, вплоть до великого князя Константина Константиновича (он же поэт К. Р.), который много лет курировал военно-учебные заведения и отличался гуманизмом, не могло коренным образом изменить ситуацию. По мнению Григоровича, начальство Главного инженерного училища знало о «своеволии между воспитанниками», но поскольку оно само находилось «под гнетом страха и ответственности», то «на шалости, происходившие у себя дома, в закрытии, смотрели снисходительно, лишь бы, как я уже заметил, в данный момент воспитанники были во всем исправны: не пропустили на улице офицера, не отдав ему чести, выходной билет был бы на месте между второй и третьей пуговицей… молодцами прошли бы на майском параде» (Цит. по: Кошелева, 2003. С. 11). Многие офицеры-воспитатели были уверены, что «подтяжка дает младшему классу дисциплину и муштровку, а старшему – практику пользования властью» (Зайончковский, 1973. С. 326).
Сами кадеты воспринимали «пук» не как унижение, а как элемент нормальной корпоративной практики, который они принимали добровольно, хотя и под давлением социальной среды. Когда вчерашний кадет, гимназист или студент попадал в стены училища, старшие прежде всего спрашивали его, как он желает жить – «по славной ли училищной традиции или по законному уставу?» Изъявивший желание жить «по уставу» избавлялся от «цука», зато «своим» его не считали, называли «красным» и относились к нему с презрением. К «красному» с особой дотошностью придирались командиры низшего звена – взводные юнкера и вахмистры, а главное – по окончании училища его не принимал в свою офицерскую среду ни один гвардейский полк. Поэтому подавляющее большинство юнкеров предпочитало жить по «традиции», издержки которой списывались на товарищескую спайку.
Ознакомительная версия.