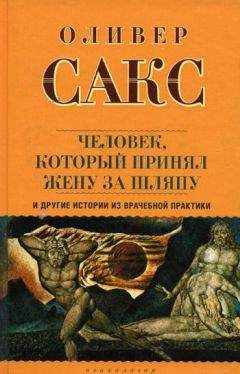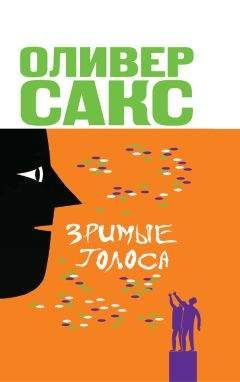Пенфилд и Перо назвали свою статью «Регистрация зрительных и слуховых переживаний в мозгу». Зададимся вопросом: в какой форме происходит такое внутреннее архивирование? При описанных выше припадках, связанных с сугубо личными переживаниями, в точности воспроизводится определенный фрагмент внутреннего опыта. Каков механизм этого процесса? Происходит ли в мозгу нечто подобное проигрыванию пластинки или фильма? Или же мы имеем дело с исполнением пьесы или партитуры – сходным процессом, но в логически более ранней его стадии? В какой окончательной форме существует репертуар нашей жизни – репертуар, снабжающий материалом не только воспоминания и реминисценции, но и воображение на всех уровнях, начиная с простейших чувственных и двигательных образов и заканчивая бесконечно сложными воображаемыми мирами, ландшафтами и событиями? Что вообще есть этот репертуар памяти и воображения, наполненный личным и драматическим смыслом и существующий на внеязыковом, иконическом уровне?
Реминисценции моих пациенток поднимают фундаментальные вопросы о природе памяти (mnesis). Эти же вопросы, но совершенно по-другому, ставят амнезии пациентов, описанных во 2-й и 12-й главах настоящей книги – «Заблудившийся мореход» и «Выяснение личности». Аналогичные вопросы о природе знания (gnosis) встают перед нами в случае пациентов с агнозиями – профессора П., страдавшего поразительной зрительной агнозией («Человек, который принял жену за шляпу»), а также миссис О'М. и Эмили Д. («Речь президента»), агнозии которых были музыкальными и слуховыми. И, наконец, те же проблемы, но только в области действия (praxis), возникают при исследовании явлений моторного «замешательства» – апраксий у некоторых пациентов с замедленным развитием и поражениями лобных долей. Расстройства эти бывают настолько тяжелыми, что пациенты теряют способность ходить, упускают свою «двигательную мелодию» (это происходит и при паркинсонизме, как описано в книге «Пробуждения»).
Обе мои ирландские пациентки переживали реминисценции – конвульсивный наплыв хранившихся в памяти мелодий и сцен, нечто вроде гипермнезиса или гипергнозиса. Пациенты же с амнезиями и агнозиями, напротив, лишаются своих внутренних мелодий и сюжетов. Состояние и тех и других подтверждает мелодическую и повествовательную природу внутренней жизни, так глубоко раскрытую Прустом в его размышлениях о памяти и сознании.
Стоит начать стимулировать кору головного мозга пациента-эпилептика, как в ней непроизвольно оживают реминисценции давнего прошлого (нечто подобное описывает Пруст в романе «В поисках утраченного времени»). Задумаемся: на чем основано это явление? Какого рода церебральная организация необходима, чтобы реминисценции были возможны?
Современные концепции обработки и представления сигналов в мозгу связаны с понятием вычислительного процесса[88] и, как следствие, формулируются на языке схем, программ, алгоритмов и т. д. Но способны ли схемы, программы и алгоритмы сами по себе объяснить образный, драматический и музыкальный характер внутренних переживаний – все богатство и яркость личного содержания, превращающие безличные сигналы в индивидуальный субъективный опыт?
В ответ на этот вопрос я заявляю свое решительное «нет». Идея вычислительного процесса, пусть даже такого изощренного, как в теориях Марра и Бернстайна, двух ведущих и наиболее глубоких представителей этого направления, сама по себе недостаточна для объяснения «иконических» представлений, являющихся основой и тканью нашей внутренней жизни.
Таким образом, между рассказами пациентов и теориями физиологов возникает разрыв, настоящая пропасть. Существует ли хоть какая-то возможность заполнить ее? И если такой возможности нет (что отнюдь не исключено), имеются ли вне рамок вычислительной теории идеи, которые помогут нам лучше понять глубоко личностную, экзистенциальную природу реминисценций, сознания и самой жизни? Короче говоря, нельзя ли над шеррингтоновой, механистической наукой об организме надстроить еще одну, личностную, прустовскую физиологию? Сам Шеррингтон косвенно намекает на такую возможность. В книге «Человек и его природа» (1940) он описывает сознание как «волшебного ткача», сплетающего изменчивые, но всегда осмысленные узоры – сплетающего, если задуматься, ткань самого смысла…
Эта смысловая ткань не укладывается в рамки чисто формальных схем и вычислительных программ. Именно она является основой глубоко личной природы реминисценций, а также основой мнезиса, гнозиса и праксиса. И если мы спросим, в какой форме она существует, ответ очевиден: ткань личного смысла неизбежно принимает форму сценария или партитуры – так же, как неизбежно принимает форму схем и программ абстрактная организация вычислительных процессов. Из этого следует, что над уровнем церебральных программ необходимо различать уровень церебральных повествований.
В соответствии с этой гипотезой в мозг миссис О'М. неизгладимо впечатана партитура «Пасхального шествия» – а вместе с ней и партитура всего, что она слышала и чувствовала в момент первоначального переживания. Подобным же образом в «драматургических» отделах мозга миссис О'С. надежно хранятся забытые на сегодня, но вполне восстановимые сценарии ее детских переживаний.
Отметим еще одно обстоятельство. Из описанных Пенфилдом случаев следует, что удаление микроскопической точки коры, раздражение которой вызывает реминисценцию, может полностью уничтожить соответствующий эпизод и заменить абсолютно конкретное воспоминание столь же резко очерченной лакуной забвения. На месте «гипермнезии» в этом случае возникнет тотальная амнезия.
Это важное и пугающее обстоятельство. Оно говорит о том, что возможна «психохирургия» – нейрохирургия личности, бесконечно более тонкая и эффективная, нежели грубые ампутации и лоботомии, способные уничтожить или деформировать характер, но бессильные перед индивидуальными переживаниями.
Итак, внутренний опыт и действие невозможны вне иконической организации. На ее основе устроены главные архивы мозга, где записана вся наша жизнь. Промежуточные стадии архивации могут принимать формы программ и вычислительных процессов, однако окончательная форма хранящихся материалов необходимо иконична. Финальным уровнем представлений в мозгу должно быть художественное пространство, где в единую ткань сплетаются сюжеты и мелодии наших действий и чувств.
Та же логика подсказывает, что при поражениях мозга в ходе амнезий, агнозий и апраксий возрождение разрушенных представлений (если оно возможно) требует двойного подхода. С одной стороны, нужно исправить поврежденные программы и механизмы (в этом деле исключительных успехов добилась советская нейропсихология). С другой – необходимо выйти непосредственно на уровень внутренних мелодий и сюжетов больного (примеры такого контакта описаны как в моих книгах «Пробуждения» и «Нога, чтобы стоять», так и здесь – особенно подробно в главе 21 и во введении к четвертой части). Если мы надеемся понять внутренние состояния пациентов с поражениями мозга и оказать им реальную помощь, годятся оба подхода: можно применять и «систематическую», и «художественную» терапию – либо по отдельности, либо, что еще лучше, параллельно. Подобные мысли высказывались еще сто лет назад. Об этом писали Хьюлингс Джексон в первом исследовании о реминисценциях (1880), Корсаков в диссертации об амнезии (1887) и Фрейд и Антон в работах по агнозии. Развитие классической физиологии затмило их блестящие прозрения, но сейчас пришла наконец пора вспомнить о них и помочь рождению «экзистенциальной» науки и терапии. В комбинации с систематическим направлением она сможет приблизить нас к более полному пониманию человека и открыть новые горизонты.
С момента первой публикации этой книги ко мне неоднократно обращались за консультацией по поводу музыкальных реминисценций. Судя по всему, это не такое уж редкое явление, особенно среди престарелых, которым страх и нерешительность зачастую мешают обратиться за советом. Иногда, как в случае моих ирландских пациенток, в ходе консультаций обнаруживается серьезная патология. Реминисценции также могут возникать на основе токсикоза, например, при чрезмерном употреблении аспирина (см. отчет в «The New England Journal of Medicine» за 5 сентября 1985 года). У пациентов с глухотой, вызванной поражениями слухового нерва, иногда появляются музыкальные «фантомы». Но в большинстве случаев никакой патологии обнаружить не удается, и считается, что, несмотря на причиняемые пациенту неудобства, реминисценция по существу доброкачественна. До сих пор все же неясно, почему именно «музыкальные» части мозга оживают у пациентов в пожилом возрасте.
С описанными в предыдущей главе реминисценциями я впервые столкнулся, работая с пациентами, страдавшими эпилепсией и мигренями. Гораздо чаще, однако, они возникали у моих постэнцефалитных пациентов, возбуждаемых препаратом L-дофа. В результате я даже назвал L-дофу чем-то вроде «личной машины времени».