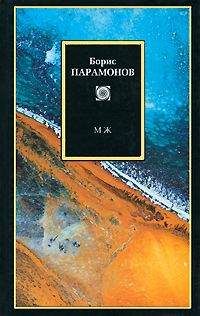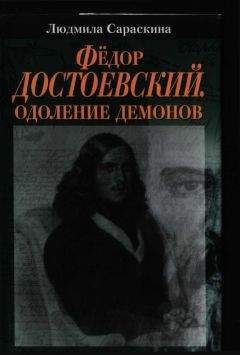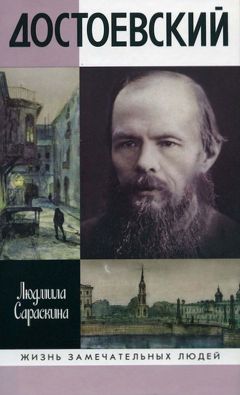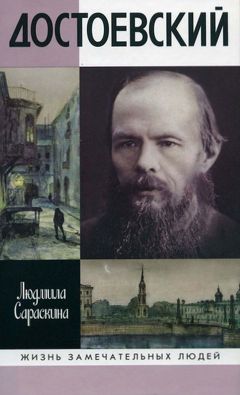Я представил себе силу коллектива колонистов и вдруг понял, в чем дело: ну, конечно, как я мог так долго думать! Всё дело в остановке. Не может быть допущена остановка в жизни коллектива. Я обрадовался по-детски: какая прелесть! Какая чудесная, захватывающая диалектика! Свободный рабочий коллектив не способен стоять на месте. Всемирный закон всеобщего развития только теперь начинает показывать свои настоящие силы. Формы бытия свободного человеческого коллектива – движение вперед, форма смерти – остановка.
Да, мы почти два года стоим на месте: те же поля, те же цветники, та же столярная и тот же ежегодный круг.
Круг – это и есть образ устойчивости и повторяемости, бытийной укорененности, принимающий в большевицких глазах Макаренко признак «окружения», неизбежно вражеского. Это крестьянское хозяйство с непременной семьей, то есть нечто уже выделенное, индивидуализированное. Макаренко же как противоядие преподносится образ трудармии, бросаемой распоряжением начальства на очередной «прорыв». Это – лагерь, ячейка ГУЛага. Какая тут семья, какой Чобот с Наташей! Семья здесь – бригада (Солженицын). Хозяйствование здесь по существу иллюзорное, главное – занятость, отсутствие безработицы как преимущество социализма. Хозяйство – кочевое, подсечное, вырубающее лес, уничтожающее тайгу. Предел такого хозяйствования – уничтожение его природной базы, «подавление природы», аннигиляция бытия и деятельности, то есть социализм как общественно реализуемый инстинкт смерти. Зачем же рожать детей, зачем жениться казаку? Стилист Макаренко чувствует, что женатый Дерюченко напрасно казакует, напрасно назвал своего сына Тарасом, потому над ним и издевается: настоящий казак, из Тарасов, детей своих убивает. Вариант: сексуально эксплуатирует. Ведь недаром «Тарас Бульба» начинается многозначительной фразой: «А поворотись-ка, сынку!»
Образец макаренковского юмора – рассказ о том, как колонистка Раиса, родив, задушила ребенка. Любимец Макаренко Семен Карабанов отвозил труп в больницу – и увидел там ряды банок с заспиртованными младенцами: «Наш – найкращий!» – сказал Семен. Найкращий, то есть самый красивый, младенец – это мертвый младенец.
Какова генеалогия Макаренко? Уж, конечно, не народное учительство и не педагогический институт в Полтаве. Связь с Горьким, конечно, чрезвычайно важна, главным образом по линии «идеологии как технологии». Но тут важно также вспомнить еще одну линию связи – с горьковским «босяцким ницшеанством». И здесь важнее не столько босячество, сколько ницшеанство. В Макаренко неожиданно просматривается человек, испытавший влияния ныне прославляемого русского Серебряного века. В книге Макаренко упоминаются Ницше, Врубель, Шопенгауэр, «столп и утверждение» педагогики, в последнем же узнается не столько ап. Петр, сколько Флоренский. Макаренко видится в том социально-культурном процессе, который вел от декадентов к футуризму Маяковского и последующему ЛЕФу. Культурные корни Макаренко здесь – в эпохе декаданса, который нынче принято называть «религиозно-культурным ренессансом». Гомосексуализм – не как персональная сексуальная ориентация, а как некая культурная метафора – может выразиться не только в изломанной позе декадента, но и в энергии насильничества над природой, каковое насильничество и есть большевизм.
Зачем, снеся памятник шефа Макаренко Дзержинского (тоже большого любителя беспризорных мальчиков), сохранять в неприкосновенности одного из бесов его легиона?
Пересматривая фильм Бергмана «Персона» – одно из знаменитейших его произведений, – я, кажется, на этот раз (четвертый) в нем разобрался. При этом обнаружились любопытные совпадения этой вещи Бергмана с циклом мыслей Николая Бердяева, развернутых в его концепции творчества и вообще всегда волновавших русского философа.
Нужно напомнить содержание фильма Бергмана. Знаменитая актриса во время представления замолчала – вышла из роли. Более того, она вообще перестала говорить, разорвала всякие контакты с миром, даже с собственными мужем и ребенком. Она помещена в психиатрическую лечебницу, где обнаружена полная ее вменяемость, нормальность: она просто не хочет ни с кем говорить. Женщина-психиатр дает свою трактовку происшедшего: актриса (ее имя Элизабет Фоглер) почувствовала свою чуждость миру, потеряла к нему интерес. События приобретают явно не бытовой оборот, мы начинаем понимать, что нам предложен метафизический, философский сюжет. Психиатр предлагает необычной пациентке необычный курс лечения, – если можно говорить о лечении: повторяю, это не клинический случай, а философская проблема, та, которую Бердяев назвал проблемой одиночества и общения. Врач отправляет актрису в свой загородный дом в сопровождении молодой медсестры по имени Альма. Дача врача находится в отдаленном месте на берегу моря, почти в полной изоляции, – воспроизводится обстановка одиночества, в которую погрузила себя сама актриса, с той разницей, что у нее будет постоянный, ни на минуту не оставляющий партнер. Заговорит ли Элизабет с Альмой, вступит ли в контакт с миром? Всё последующее – ряд непрерывных попыток Альмы найти человеческую связь с Элизабет – и неудача этих попыток. Альма буквально выворачивает наизнанку нутро в желании заинтересовать Элизабет своей жизнью. Происходит искушение жизнью – не соблазнами ее, а горем, реальными проблемами. Не находя в Элизабет никакого отклика, Альма начинает ее ненавидеть – и проникает в душу Элизабет, вскрывает ее актуальный конфликт – ее ненависть к собственному ребенку. Но это тоже не реальный ряд, а символический: ребенок – метафора того же внешнего мира, мира объектов, чуждого душе артистки. Важно в этом повороте то, что Бердев называл – ненависть как метод гнозиса, познания. В этой сцене Элизабет и Альма сливаются в одно лицо (великолепная игра Бергмана со зрительными образами; вообще в фильме всё время идет ироническое подчеркивание невсамделишности происходящего, упор на сам экран, обнажение приема). Происходит это, однако, только на экране, в реальности Элизабет так и не заговаривает. Альма уезжает, и ее отъезд сопровождается в монтаже образами Элизабет на сцене. Элизабет остается одна – мы это понимаем, хотя в этих финальных кадрах она и не появляется реальная, а только в сценических, актерских реминисценциях.
Очень это трудно – передать словами визуальный ряд: слов требуется много, и всё равно нужного впечатления добиться трудно.
Перейдем к трактовке, где слова уместны. Первый, очень поверхностный содержательный слой: проблема артиста в узком смысле, актера. Как верили в старину, актер не имеет души, даже лица, он только носит разные маски. Персона в названии фильма – не личность, а именно маска (прямой смысл слова). Мы видим, что Элизабет отказывается носить маску, хочет выйти к реальности, обрести душу. Потом мы обращаем внимание на тему Христа, воскресения; фильм начинается в морге, в анатомическом театре – подчеркнем слово «театр», – где мертвые пробуждаются, где к ним возвращается душа. Два раза в фильме появляются кадры распятия: крупный план гвоздя, вбиваемого в ладонь. Христианская тема: душа появляется, пробуждается, воскресает в акте любви, в отдаче себя миру. Персона уступает место лицу. Альма хочет пробудить душу Элизабет действием любви (появляется даже намек на лесбийскую связь, которая оказывается иллюзией, как бы сном Альмы). Но раскрытия артистической души, мы видели, не происходит, Альма уезжает и Элизабет остается одна, как бы в пустыне. Мы ухватываемся за слово «пустыня» и вспоминаем евангельский сюжет об искушении Христа Сатаной в пустыне: в фильме сюжет обращен, – получается, что Христос искушает Сатану. «Персона» – это фильм о демонической, сатанинской природе художника, о его онтологическом одиночестве (что и есть сатанизм) – но и о преодолении этого одиночества в акте творчества, в игровом осознании собственной оторванности от реального мира, в населении пустыни созданиями артистического воображения. Художник спасается творчеством. Элизабет вышла из тупика тем, что сделала фильм об этом, Элизабет – это Бергман, Эмма – это я.
Каковы же у Бергмана обещанные бердяевские параллели? Возьмем одну статью Бердяева, написанную в 1914 году и, как вспоминает Бердяев в автобиографии, вызвавшую возмущение. Статья называется «Ставрогин» – о демоническом герое романа Достоевского «Бесы». Бердяев, заинтересованный и, можно сказать, плененный им, дает Ставрогину необычайно высокую оценку. Необыкновенная смелость этого сюжета Достоевского, говорит Бердяев, – зло как путь, обогащение мысли и опыта на путях зла. Злодей Ставрогин спасется, утверждает Бердяев, – мы увидим его в конце времен на мессианском пиру. Бердяев всё время подчеркивает, что настоящего Ставрогина в романе нет, он кончился, погиб до его начала, в романе присутствует только маска (персона!) Ставрогина. Он что-то вроде Элизабет Фоглер в фильме Бергмана.