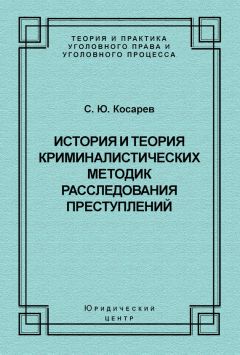Ознакомительная версия.
— С кем он дружит? — спросила я ее.
— Ни с кем, — процедила Люба.
Перед нами явление, не зафиксированное в науке: засвеченная пленка проявилась. Тема дружбы спровоцировала детей на многофигурные композиции, где все дружат со всеми, одна Люба на огромном пространстве картона, будто на выжженной земле усадила крошечного малыша с отверстиями вместо глаз.
Следующим уроком после лепки была музыка. Загремели бубны и погремушки, а Любочка все сидела за столом.
Подружка позвала Любу, Люба отмахнулась.
Я похвалила ее за работу. Может быть, она этого ждет, оставшись со мной наедине?
Люба не отозвалась. А потом она встала и выкинула свою дружбу вместе с картоном в ведро с глиной.
— Плохая, — сказала она, — я другую слеплю, потом.
Этот поступок Любы — разрыв с прошлым, которое тяготит, угнетает ее. Пленка проявлена, отпечатана, фотография же уничтожена. Пришел час, когда Люба раскрылась, в первую очередь перед собой. Можно представить себе, какая борьба шла в маленькой девочке в течение тридцати минут. Она одержала победу, и теперь стало спокойнее за ее судьбу.
Толю К. усыновила балерина, вышедшая на пенсию. У Толи был какой-то недетский, остановившийся взгляд. Он часами смотрел в одну точку, не отзывался, когда к нему обращались. Работа с ним походила на игру ребенка с куклой. Ребенок ставит куклу на пол, приговаривает: «Иди, иди». Кукла же остается на месте, пока ребенок не передвинет ее ноги, то левую, то правую. Так и мы поначалу «водили» Толю.
В отличие от Любы Толя попал не в большую семью, а в довольно беспомощные женские руки. Его связи не расширялись механически (Любе пришлось сразу определить свои отношения со всеми членами семьи, да и животными), а ограничивались отношениями: мама — сын. Самыми ответственными. Он явно был не готов к ним. И впал в летаргический сон. Возможно, от счастья. Но раскачать Толю оказалось много труднее, чем Любочку.
Целый год продолжалось это его гляденье в одну точку. После лета наметились первые сдвиги. Толя как бы вдруг начал воспроизводить все то, чем мы занимались прошлый год. Приставит к колбаске лепешку — гриб. Не зонт, не молоток — гриб. Свернутая колбаска — улитка без рожек. И песню вспомнил, что пели в прошлом году. Вспомнил, какие надо смешать краски, чтобы вышла зеленая.
Оглушенный судьбой ребенок медленно приходил в себя. Трудно было определить, какой он — добрый или злой, скупой или щедрый. Но что радовало — он рвался к нам, он готов был дневать и ночевать с нами. Пробуждение в том и состояло, что Толя теперь что-то хотел или чего-то не хотел. Волеизъявление — свойство активной личности. Только к середине второго года занятий Толя окончательно освоился, стал отвечать на задания.
И третья девочка — Вера. Зажатая, агрессивная, с явными признаками аутизма. Если с Любой и Толей можно было работать как с психически полноценными детьми, то с Веры нельзя было спускать глаз. То выльет ведерко с водой из-под краски на стол или, еще хуже, на платье соседки — и тут же обмочится. От страха. То, влекомая волею мощного импульса, со всего маху ударит кого-нибудь из детей или в волосы вцепится.
В целях безопасности пришлось разъединить столы и рассадить детей по четверо. У нас с Верой был отдельный, свой столик.
Родители детей этой группы обратились с жалобой на Верину маму. Мамы и бабушки уничтожали взглядом несчастную молодую женщину. К тому же — незамужнюю. «Вот, взяла ненормального ребенка, и наши дети из-за нее страдать должны».
Мать Веры безмолвно сносила недовольное жужжание, оправдывалась перед заведующей. Сама сирота, удочеренная в возрасте Веры, она знала, на что шла. С каким трудом заполучила Верочку! Незамужним-то не доверяют детей. Одно обстоятельство помогло — наличие пригодной жилплощади.
Верина мать сызмальства тянулась к детям. Учительнице на продленке помогала возиться с первоклашками. Ее влекла к заброшенным детям память собственного детства: та, что стала ей матерью, тоже была одинока, работала нянечкой в больнице. Судьбы. Мы стали равнодушны к чужим судьбам.
К каждому уроку приходилось раздвигать столы, расставлять стулья. Мать Веры мне в этом помогала. Она не знала, как выразить признательность за то, что мы отстояли Веру, за то, что пытаемся ей помочь. Это тоже вызывало недовольство родителей.
Период агрессивности сменился периодом «слезным». Будто внутри девочки таял айсберг, и ее заливало слезами. Но постепенно Вера успокоилась, привыкла. Кстати, если не поощрять детей на «справедливый гнев», то они быстро перестают реагировать на странности чужого поведения, и от этого странности пропадают сами собой.
Рисунки Веры сохранились. По ним можно восстановить «историю болезни», проследить эволюцию девочки.
Из пластилина, положенного в морозильник, ничего не вылепишь. Его надо согреть, и он станет податливым.
Бездушный пластилин требует тепла. Что уж говорить о душе ребенка, которая в особо чувствительный период становления и «взрывного» развития томилась в колодках?!
Какими бы выросли эти дети, если бы они не попали в семьи? Если бы столько людей не двинулось им навстречу, не умерило их горе любовью и заботой?
"Не мешай завивать фантазии!"
Дети влетают в класс. Врываются с шумом и гамом, роняют краски и пластилин — так ветер врывается в окно, все сдувая с подоконника.
Дети — стихия. Но у меня есть способ ее обуздания — маленькая куколка в кармане рабочего халата.
Гремят бубны и погремушки — дети прибыли с музыки, а я тихо беседую с куклой.
— Что вы ей сказали? — стихают разом. — Она говорящая?
— Да, но, к сожалению, потеряла голос.
— Где? — спрашивают, готовые броситься вдогонку за потерянным голосом.
— В метро. Там столько народу, а голос у нее такой маленький, незаметный, разве отыщешь?
— Надо посадить пищик в землю, и из него вырастет новый голос, — советует Аня, автор «всей природы» и «всего вокзала».
На даче она развела «огород» из копеек и птичьих перьев. И еще много чего выращивает. Верит она на самом деле в то, что у нее вырастут денежные деревья и всамделишные птицы, или играет? И то и другое. Детское воображение — на стыке веры и игры.
— А голос похож на язык? Он прям бежал бегом?
— Спросите ее (уже не называют куклу куклой): можно сделать цапле проволочные ноги?
Я становлюсь связной между потерявшей голос куклой и детьми. Постепенно начинаю верить в необычность этой куклы. Вернее, выгрываться в роль. Поверить уже никогда не смогу. Время прошло.
— А у голоса есть душа?
— Конечно, человек же поет?
— Душа поет голосом.
— А бывает песня не грустная, не веселая — средняя?
— А кто отправляет душу в небо? Летчик?
— Душу никуда не отправляют. Это воздух. Что ты, воздух в посылку заколотишь, в деревянный ящик? — включается Арам. — И вообще: никаких душ нет. Есть кровь и кости. Еще мясо. Я дедушку позову, он вам все скажет.
Разгорается вечный спор. Между материализмом и идеализмом. Сначала все — против Арама. Со временем соотношение сил переменится.
— Аня Скворцова! — завклубом входит в класс. — Вставай и идем со мной.
— Что случилось? — спрашиваю, видя, как Анечка покраснела, испугалась начальственного тона.
— Давай, давай, выходи. — Заведующая не намерена ничего объяснять.
Мы с Аней выходим вместе.
— В следующий раз ее мать позаботится о плате, — говорит завклубом.
…Все решено. Я ухожу из студии. Вслед за Аней. Но сейчас я должна вернуться и довести урок. Дети-то ни при чем!
Воспользовавшись моим отсутствием, они носятся по классу, «пуляются» пластилином. И у меня нет сил обуздать их буйство. Я потеряла голос, как кукла. Нам помешали «завивать фантазии», сбили с толку. Душу действительно не заколотишь в деревянный ящик. Она рвется на свободу, где никто не смеет чинить над ней расправы. Но то, что вытворяют сейчас дети, не есть проявление свободы. Это ответ на мое бессилие.
«Ушла, бросила нас, не говоришь с нами про воздух и пропавший голос, вот тебе, получай!» — вот что хотят сказать они мне.
Бессилие порождает страх. Впервые я боюсь детей. Они это чувствуют, кто-то погасил свет, из-под стола раздается всхлипывание.
Я включаю свет и делаю попытку рассадить детей по местам.
— А мы больше не будем лепить, — заявляет Арам и запускает пластилиновый шарик в потолок. — Мы хотим беситься.
— Собирайтесь, ребята, — говорю не своим голосом.
Меня подменили. Я стала злой. Злой от бессилия. Злостью не удержать детей в повиновении. Но разве когда-нибудь я хотела подчинить себе детей?
Дети с радостью уходят с урока. Самого дрянного урока в моей жизни.
Бабушка Ляля победно шествует по коридору. Она наметила жертвы и выжидает удобный момент для их заклания. Кто не нужен ее Риточке — в первую очередь, уж слишком строптивая «лепка» и грязная «живопись». По Лялиной инициативе уже введена и функционирует «подготовка к школе». Учительница из английской спецшколы учит малышей сидеть, не шевелясь, по сорок минут, отвечать на вопрос «по поднятию руки» и прочим дисциплинарным премудростям. Родители это приветствуют. Осуществляется их мечта — приучение детей к порядку. Что за этим последует, как скажется рабское это послушание потом, никого не волнует. Нужно, чтобы дети «слушались». Класс живописи аннулирован. Мольберты убраны. Теперь здесь учатся сидеть неподвижно и отвечать на вопросы «по поднятию руки».
Ознакомительная версия.