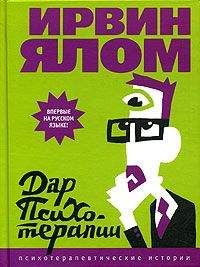Я узнал от Полы, что страх перед смертельной болезнью многократно усиливается отчуждением других людей. Они разыгрывают дурацкий спектакль, пытаясь скрыть приближение смерти, и тем только обостряют одиночество умирающего пациента. Но смерть нельзя скрыть, ее приметы повсюду: в приглушенных голосах медсестер, в докторах на обходе, вдруг начинающих осматривать не ту часть тела, в студентах-медиках, на цыпочках входящих в палату, в храбрых улыбках родственников и деланной бодрости посетителей. Одна раковая больная рассказала мне, что узнала о близости смерти, когда лечащий врач вместо обычного игривого шлепка по попе вдруг закончил осмотр душевным рукопожатием.
Больше смерти человек боится сопутствующей ей полной изоляции. Мы пытаемся идти по жизни парами, но умираем в одиночку — никто не может умереть вместе с нами или за нас. Живые сторонятся умирающих, и это предвестие последней, окончательной оставленности. Пола рассказала мне о двух проявлениях предсмертного одиночества. Пациент отсекает себя от живущих, он не желает втаскивать семью и друзей в свой собственный ужас, открывая им свои страхи или зловещие мысли. А друзья сторонятся умирающего, чувствуя себя беспомощными, неловкими, не знают, что говорить и делать, боятся подойти слишком близко и увидеть предвестие собственной смерти.
Но изоляция Полы кончилась. Я буду верен, даже если все остальные — нет. Пусть другие покинули Полу — я ее не покину. Как хорошо, что она меня нашла! Разве я мог знать, что настанет время, когда она сочтет меня Петром, многажды отрекшимся от нее?
Она не могла найти подходящих слов, чтобы описать горечь своего одиночества, период, который она часто называла Гефсиманским садом. Однажды она принесла мне литографию работы своей дочери, где несколько стилизованных силуэтов побивали камнями святую — крохотная фигурка женщины скорчена, тонкие руки не в силах противостоять граду камней. Эта картина до сих пор висит у меня в кабинете, и каждый раз, глядя на нее, я вспоминаю слова Полы: «Я — эта женщина, бессильная перед палачами.»
Выбраться из Гефсиманского сада Поле помог священник епископальной церкви. Он, знакомый с мудрым афоризмом из «Антихриста» Ницше — «Тот, кто знает, „почему“, может справиться с любым „как“», — помог ей воспринять страдание по-другому, провести рефрейминг. «Твой рак — это твой крест, — сказал он ей. — Твое страдание — это служение.»
Эта формулировка — «божественное озарение», как назвала ее Пола, — все изменила. Пола рассказывала о том, как научилась принимать свое служение, о взятой на себя задаче — облегчать страдание людей, больных раком. И я начал понимать свою роль: не Пола — объект моей работы, а я — объект ее работы, ее служения. Я мог ей помочь, но не поддержкой, не интерпретацией, даже не заботой или верностью. Моя роль заключалась в том, чтобы позволить себя учить.
Возможно ли, что человек, чьи дни сочтены, чье тело пронизано раком, может проживать «золотые дни»? Для Полы — возможно. Именно она открыла мне, что честное приятие смерти обогащает восприятие жизни, усиливает удовлетворение от нее. Я отнесся к этому скептически. Я подозревал, что слова о «золотых днях» — преувеличение, типичные для Полы красивые слова о духовности.
— Золотые? Ну да! Пола, посуди сама, что «золотого» в умирании?
— Ирв, — укорила меня Пола, — это неправильный вопрос. Попробуй понять, что «золото» — не в умирании, но в том, чтобы жить полной жизнью перед лицом смерти. Подумай, как остры и драгоценны последние впечатления: последняя весна, последний полет пушинок одуванчика, последнее облетание лепестков глицинии.
— И еще, — говорила Пола, — золотой период — время великого освобождения. Это время, когда ты можешь сказать «нет» любым обязательствам и посвятить себя тому, что тебе дороже всего — общению с друзьями, смене времен года, набегающим морским волнам.
Пола резко критиковала работы Элизабет Кюблер-Росс, «верховной жрицы смерти» от медицины, которая, ничего не зная о золотой стадии, выработала негативистский, клинический подход к смерти. Стадии умирания в формулировке Кюблер-Росс — гнев, отрицание, попытки «торговаться», депрессия, приятие — каждый раз сердили Полу. Она настаивала, и я уверен в ее правоте, что такое жесткое разделение эмоциональных реакций на категории дегуманизирует и пациента, и врача.
Золотой период Полы был временем для пристального самоизучения: ей снилось, что она бродит по огромным залам, обнаруживает у себя в доме новые, неиспользуемые комнаты. И еще это было время приготовлений: ей снилось, что она убирает дом, от подвала до чердака, наводит порядок в письменных столах и шкафах. Она действенно, заботливо подготавливала и своего мужа. Временами она чувствовала себя лучше и могла бы в это время ходить за покупками, готовить, но намеренно не делала этого, чтобы муж научился сам себя обслуживать. Однажды она рассказала мне, что очень гордится им, потому что он впервые сказал «когда я буду на пенсии» вместо «когда мы будем на пенсии». Во время таких разговоров я сидел с круглыми глазами и не верил своим ушам. Да правду ли она говорит? Может ли такая отвага существовать вне диккенсовского мира, где живут Пеготти, крошка Доррит, Том Пинч и Боффины? В литературе по психиатрии редко обсуждается такая черта личности, как добродетель, разве что иногда ее называют защитой личности от более низких импульсов, и сначала я сомневался в мотивах Полы, пытаясь незаметно нащупать бреши и вмятины в этой маске святости. Но я ничего не нашел и вынужден был заключить, что это не маска, прекратить поиски и погрузиться в источаемую Полой благодать.
Пола была уверена, что приготовление к смерти очень важно и требует целенаправленного внимания. Узнав, что рак распространился на позвоночник, Пола подготовила тринадцатилетнего сына к своей смерти, написав ему письмо, которое тронуло меня до слез. В последнем абзаце она писала, что легкие человеческого зародыша не дышат, глаза не видят. Так зародыш готовится к существованию, которое пока не может себе вообразить. «Вот так и мы, — писала Пола сыну, — готовимся к существованию, которое превыше нашего познания, за пределами даже наших фантазий.»
Я никогда не понимал верующих людей. Сколько я себя помню, мне казалось очевидным, что религиозные системы создаются для утешения и успокоения, для защиты от жизненных тревог. Однажды, лет в двенадцать или тринадцать, когда я работал в продуктовой лавке у отца, я поделился своим скептицизмом с ветераном второй мировой войны, только что вернувшимся с европейского фронта. В ответ он протянул мне мятую, выцветшую картинку с девой Марией и Иисусом, которую всегда носил с собой во время боевых действий в Нормандии.
— Переверни, — сказал он. — Читай вслух.
— В окопах нет атеистов, — прочитал я.
— Верно! В окопах нет атеистов, — медленно повторил он, грозя мне пальцем при каждом слове. — Христианский Бог, еврейский, китайский, какой угодно — но Бог! Ей-Богу, без него никак.
Мятая картинка, подаренная незнакомцем, заворожила меня. Она пережила Нормандию и неизвестно сколько еще разных битв. Может быть, подумал я, это знак; может быть, божественное провидение наконец меня нашло. Два года я носил эту картинку в бумажнике, время от времени доставал и обдумывал. А потом как-то раз спросил себя: «Ну и что? Что с того, что в окопах не бывает атеистов? Если это что-то и доказывает, то как раз мою позицию: конечно, вера возрастает, когда возрастает страх. В том-то и дело: страх рождает веру; нам нужен бог, мы хотим, чтобы он был, но как бы мы ни хотели, желание не станет действительностью. Вера, сколь угодно горячая, чистая, всепоглощающая, ничего не говорит о реальности существования Бога.» На следующий день, зайдя в книжный магазин, я вытащил уже бессильную картинку из бумажника и очень осторожно — она заслуживала уважения — вложил ее в книгу «Душевный мир», где, может быть, ее найдет другой человек с мятущейся душой и получит больше пользы.
Мысль о смерти давно внушала мне ужас, но со временем я понял, что чистый ужас лучше некоторых верований, главная убедительность которых — в их полной бессмысленности. Я всегда ненавидел неуязвимую формулировку «Верую, ибо абсурдно». Но как терапевт я держу подобные мысли при себе. Я знаю, что вера — великий источник утешения, и никогда не пытаюсь разубедить людей, если не могу предложить взамен ничего лучшего.
Мой агностицизм не часто колебался. Может, пару раз в школе во время утренней молитвы мне становилось не по себе при виде всех учителей и одноклассников, которые стояли со склоненными головами и что-то шептали, обращаясь к небесному патриарху. Я думал: неужели все, кроме меня, сумасшедшие? А потом в газетах появились фотографии Фрэнклина Делано Рузвельта, ходившего в церковь каждое воскресенье — и это заставило меня задуматься; к верованиям Ф.Д.Р. нельзя было не относиться серьезно.