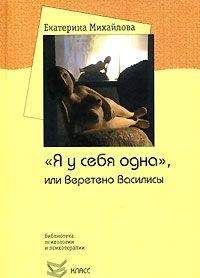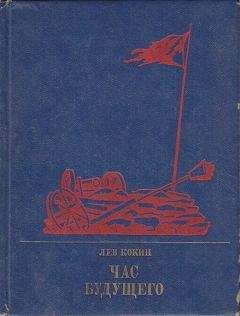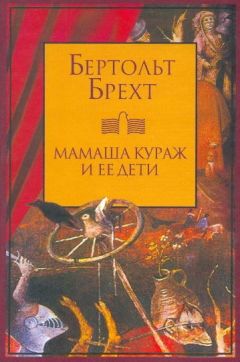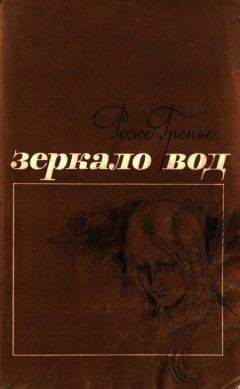Знать, чего хочешь на самом деле, не легче — иногда это нам может совсем не нравиться. Очень трудно не лукавить вообще, стократ трудней — в тех именно человеческих отношениях, которые изначально полны подозрений, ловушек, попыток манипулировать партнером. Не своих, так чьих-нибудь еще. В этом смысле наивно ожидать от наших мужчин понимания: их мир этому не учит. Обвинения, обиды, тайное или явное предъявление счетов никуда не ведут, и если мы не хотим пополнить собой бесконечную очередь жертв-убийц — не ты первая, не ты последняя, — то нам ничего другого не остается, кроме как выскочить из стереотипа. Стать не первой-последней, а единственной — хотя бы для себя одной.
Принять на себя ответственность за свое тело, относиться к нему уважительно наперекор всей лицемерной, женоненавистнической "практике" — безумно трудно. Но другого выхода нет. Важно с этим успеть в молодые годы, когда искушение слепо принять то, что навязывают, или назло поступить наоборот — сильное, а опыта житья своим умом еще немного. Ах, как хорошо было бы при этом еще и быть дочерью матери, которой нравится быть женщиной! Которая принимает свое тело и гордится им не только потому, что оно желанно или способно давать жизнь, — а просто потому, что оно живет и чувствует. Которая может и дочку научить радоваться своему телу не потому, что "тебе еще рожать", а просто потому, что дочка сама по себе ценна, любима и уникальна.
И если сложилось так (а часто именно так и складывается), что от наших матерей этого ожидать невозможно, остается только взять на себя этот труд и эту ответственность и меняться самим. В каком-то смысле остается только стать самой себе такой матерью, которой заслуживает каждый ребенок: мудрой, любящей, терпеливой.
Жизнь проходит, как сердитая соседка, не кланяясь.
Фаина Раневская
...А сравнительно недавно окованный медью сундук запросто можно было найти на московской помойке. Это сейчас они стали антиквариатом, а тогда с ними расставались безжалостно: крупная вещь не вписывалась в переезд из коммуналки в центре в спальный район. Подтаявшие комочки нафталина в углах напоминали о временах, когда зимние вещи не только хранили годами, но еще и перелицовывали. А уж какой-нибудь габардиновый отрез — чуть ли не трофейный — и вовсе берегся "для внучки на пальто".
В начале 1990-х, когда радио и телевидение радостно стращали: грядут голод, разруха, гражданская война, — моя покойная бабушка Раиса Григорьевна, дымя "пегасиной", с бесконечной иронией комментировала: "Ну что мне этот молодой человек рассказывает! Как будто он их видел, голод с разрухой! Он бы лучше у меня спросил!" У них мало кто что спрашивал: ставшие старухами в пятьдесят, знающие секреты обращения с гнилой картошкой и умевшие приготовить три блюда из килограмма костлявой мороженой мерзости, они никому не были интересны. Некоторые все же стали "антиквариатом": прибежали поворотливые девочки с диктофонами, откуда-то повытрясли старые фотографии... Но это если старухи имели отношение к знаменитостям, к тому, что принято считать историей, — "Старухи были знамениты тем, что их любили те, кто знамениты... " — к политике, к войнам и репрессиям... ну хоть к театру и кино на худой конец.
Остальные ушли, ничего не сказав в камеру: она не жалует старух. И никто не склонил головы перед незаметным, растянувшимся на десятилетия тихим подвигом миллионов женщин, не прыгавших в тайгу с парашютом и не покорявших целину, а лишь стоявших насмерть на порогах своих — и каких, мы-то знаем! — жилищ с выполосканной до скрипа тряпкой и квитанцией "за свет".
Нас больше нет. Сперва нас стало меньше,
Потом постигла всех земная участь.
Осталось только с полдесятка женщин,
Чтоб миру доказать свою живучесть.
Мы по утрам стояли за кефиром,
Без очереди никогда не лезли,
Чтоб юность, беспощадная к кумирам,
Не видела, как жутко мы облезли.
Дрожали руки, поднимая веки,
Чтоб можно было прочитать газету.
Мы в каждом сне переплывали реки,
И все они напоминали Лету...
Юнна Мориц
В моей семье откуда-то взялось и дошло до меня выражение: "Опрятной женщине, чтобы вымыться, достаточно и стакана воды". Только представьте себе, как она, эта не ко времени опрятная женщина, несла стакан — скорее, алюминиевую кружку — к себе в комнату или в какой-нибудь угол, в лучшем случае отгороженный занавеской, или куда там еще его надо было донести. И заодно додумайте, как происходило само мытье — и на что похожа жизнь, которая породила эту мерку. Грязно-серые — не от заношенности, а от природы — рубашки назывались "смерть прачкам". Удивительно ли, что столь многие женщины старшего поколения буквально помешаны на чистоте — и как же они раздражали нас, уже считающих газовую колонку недостаточно удобной, уже находящих естественным и нормальным, что из крана течет горячая вода. Правда, течет с перебоями и ржавая, но ведь течет! Ужасно смешно, не правда ли, что какая-нибудь "свекровь номер один" всерьез гордилась белизной своих вручную выстиранных наволочек — как будто больше нечем. Делать вам нечего, Нина Николаевна, зачем же так себя мучить? Делать — по большей части — было действительно нечего.
В том смысле, что иной формы контроля за грозной и непредсказуемой действительностью, кроме маниакального доведения до блеска личного имущества, не предполагалось. Отсюда и специфические ценности: "Лицо хозяйки — унитаз". Хлоркой и вонючим хозяйственным мылом — а иначе все кругом грязью зарастет, не дом, а помойка; как же не стыдно так опуститься — чайные чашки, вы подумайте, совершенно черные изнутри, а сода на что? Помойка, между тем, все равно наступала:
"И вот сидим мы все вместе за праздничным столом, накрытым в канун Великого Октября. Канцелярские столы покрыты газетами, сервированы гранеными стаканами, чашками без ручек, алюминиевыми вилками, пластмассовыми тарелками — вот они, драгоценные черепки нашего подлинного быта, именно из такой посуды мы привыкли питаться. [...] Цветы красуются в бутылках из-под молока. Вместо пепельниц консервные банки. Но мы довольны нашей сервировкой, мы очень любим служебные сабантуи.
Бывают, конечно, еще и домашние, семейные праздники, где выставляется заветная посуда и стол накрывается белой скатертью. Но мы так выкладываемся по случаю семейных торжеств, что нам не только праздник — нам белый свет не мил"[28].
Это из романа Инги Петкевич "Плач по красной суке". Все сказано одним названием. И ни от какого "родства" — исторических корней — отказываться не только глупо и неприлично, но еще и совершенно невозможно: все мы постсоветские женщины, всем так или иначе разбираться со своей персональной "помойкой" — свалкой выброшенных за ненужностью вещей, слов, привычек, иллюзий. Не спешите утверждать, что это не имеет к вам никакого отношения: отказываться от родни и скрывать свое происхождение — это ведь тоже часть традиции, и вы знаете, какой...
Про определенный тип старух говорили: "из бывших" — или, как выражалась старенькая няня одной моей коллеги, "из когдатых женщин". Незаметно, как это свойственно времени вообще, "бывшими" стали уже не воспитанницы института благородных девиц, а комсомолки-физкультурницы-рабфаковки; а там подошла и очередь предвоенного поколения — "их брали в ночь зачатия, а многих даже ранее", и далее — без остановок. Досталось всем.
Как же они справлялись? Как одевались, из чего и во что перешивали? Как отоваривали все эти бесконечные карточки и талоны, как изворачивались хоть что-нибудь приработать, когда и это тоже было нельзя? Как рожали и растили детей, как вообще на это отваживались? Как вставали в кромешном зимнем мраке на службу, куда невозможно было опоздать? Чем держались? О, в нас гораздо больше от них, чем мы догадываемся: от их привычки постоянно беспокоиться черт-те о чем и утешаться малым, от их тоски по празднику и упрямого равнодушия к тому, кого опять "всенародно избрали", от их надорванного хребта и горького юмора, от их доходящего до абсурда терпения и странной приверженности к особому способу заваривать кофе или ставить пасхальный кулич. На мои "научные" по молодости вопросы о том, сколько же именно следует месить это раз в году бывающее, восхитительное, смуглое, лоснящееся тесто с родинками изюма бабушка отвечала: "Пока жопа не взмокнет", театрально понижая голос на заветном словце. Другая бабушка, изувеченная на войне страшной непоправимой хромотой, полола грядки лежа: а что такого? Она же тихо, но всерьез осуждала меня за то, что я не помню, сколько у меня в хозяйстве постельного белья: как же так можно? А пожилая профессор-педиатр на все ахи-охи по поводу здоровья нации басила: "Мы выросли. И они вырастут..."