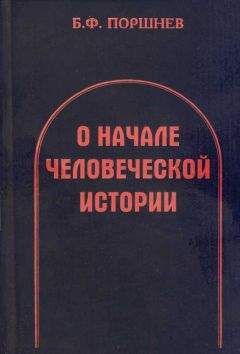Итак, когда говорят о дологическом мышлении, затрагивают механизм дипластии, присущей человеку, и тем самым говорят о фантазии. Фантазия абсолютно чужда животным, иначе говоря, высшей нервной деятельности на уровне первой сигнальной системы. Фантазия из безудержной и бесконтрольной с ростом цивилизации и историческим становлением мышления загоняется в узкие дозволенные пределы. Но именно поэтому она делается в полном смысле творческой, созидательной фантазией.
Вот почему изучение истории противоборства прелогической фантазии и логического мышления имеет отношение и к самым современным техническим проблемам. Кибернетика утверждает, что принцип работы “мыслящих” машин — отбор. Развитие законов логического мышления шло этим же путем: отбор лишь немногих парных сочетаний из множества наличных. Кибернетика, по-видимому, достигла сейчас потребности глубоко знать структуру и природу горной породы, из которой добывается драгоценная руда истины — структуру и природу ошибки, заблуждения, от которых отсеиваются ничтожные крупицы верных суждений.
От пар, или дипластий, как наидревнейших и элементарнейших явлений сознания, отличающих человека от животного, до формирования общих понятий — тоже еще целый пласт. Он состоит из двух умственных операций, одновременно и противоположных, и дополняющих друг друга: их называют сериацией (образованием серий одинаковых предметов, например палочек) и классификаций. И то и другое в простейших проявлениях можно прямо вывести из умственного действия образования пар.
В самом деле, ведь в предельном случае пара может состоять из двух очень похожих явлений. По крайней мере, в каком-либо отношении они могут быть настолько похожи, что способны и заменять друг друга. Вот исходный шаг к построению серис. В первобытном, как и в детском мышлении сериация проявляется в виде повторения какого-либо изобразительного знака, действия, жеста, звуков. На этой сублогической основе развиваются и ритм г орнамент. При некоторых нарушениях лобных долей мозга у взрослых людей та же операция приобретает болезненный характер непроизвольного многократного воспроизведения того же самого рисунка, слова и т.п. Но в нормальном развитии мышления сериация лишь подстилает следующий этап — образование общих понятий или обобщений.
Но общее понятие не может сформироваться только на этой основе. Требуется еще и участие другой операции — классификации. В простейшей форме она состоит в делении на “то” и “не то”, на “да” и “нет”. Легко заметить, что и этот акт восходит к некоему предельному случаю “пары”, но только противоположному упомянутому выше: два явления не имеют между собой ничего общего. По крайней мере они абсолютно не схожи и не связаны в каком-либо определенном отношении. Вот это и есть зародыш той операции ума, которая в своем развитии уже противоположна дипластий и называется дихотомией, т.е. делением надвое. Эта классификационная деятельность ума тоже проявляется на очень ранних ступенях его созревания. Детское сознание охотно воспринимает и развивает деление всего окружающего на хорошее и плохое. Этнографией описано у некоторых племен деление явлений природы между двумя фратриями рода. Первобытные классификации отнюдь не носят реалистически обоснованного характера. Это сохранилось в виде пережитка в нашем современном языке в форме совершенно иррационального классифицирования имен существительных на мужской и женский род. Короче говоря, начальное классифицирование тоже не есть еще, строго говоря, логическая операция, а лишь подстилает, наряду с сериацией, высшую ступень — логическое мышление с помощью общих понятий.
И вот что более всего привлекает внимание социального психолога: ведь эти две сублогические операции как-то удивительно перекликаются с родовым строем и как-то глубоко связаны с эмоциональным миром. Все члены рода, носящие общее имя, образуют именно серию, именно кучку одинаковых явлений. Родовой строй приучает их в максимальной степени быть похожими друг на друга по обычаям и утвари, быть как бы взаимозаменимыми. Поистине умственный акт сериации перекликается с социально-психологической категорией “мы”.
Но точно так же в начальной классификации нельзя не заметить выражение той же оппозиции, что и в социально-психологическом отношении “мы и они”. Чем выше развивается оценивающая деятельность ума, т.е. делящая явления и поступки на положительные и отрицательные, хорошие и дурные, тем более она наполняется реальным содержанием в таких сферах культуры, как эстетика, этика, а также как отнесение явлений и действий к положительным и отрицательным с точки зрения практической пользы и цели.
Мы снова возвращаемся к тому факту, что деление ощущений, чувств, эмоций людей на положительные и отрицательные определяется не физиологией животных и человека, где нет причин выискивать делимость всех процессов только на две противоположные группы, а закономерностями социальными, в частности социально-психологическими.
В нравственных чувствах, в эстетических чувствах, по-видимому, самым древним слоем является отрицательная оценка чего-либо. В наших книгах по теории эстетики и этики недостает разработки вопроса о том, что именно в разные моменты исторического развития являлось дурным вкусом, дурным нравом. Ведь критерий красивого, как и критерий морального, всегда невидимо содержит порицание и отрицание безвкусного, некрасивого, аморального. Второе не является негативным понятием, оно сплошь и рядом даже более определенно, чем первое: грязь, уродство, пролитие крови. Это то, что отождествляется с “чужими”, с “они”.
Путем отрицания “их” формируется “наше”. Ненависть и любовь отражают все ту же двойственность “чужого” и “своего”. Впрочем, эти чувства следует, видимо, связать с посредствующей, производной категорией: “ты” (или “вы”). Но все же эти чувства сформировались на гораздо более древней ступени становления человека, чем аппарат логического мышления с помощью общих понятий.
Можно сформулировать вывод. Вся огромная человеческая история — это тоже “они и мы”. Противоположный нам конец истории, самое удаленное состояние — это “они”. Исторический прогресс от доисторического времени до эпохи коммунизма все более формирует в сознании антитезу нашей цивилизации и их дикости, нашего высокочеловеческого состояния и их предчеловеческого. Нет более выпуклого “они”, чем эти животнообразные предки, отталкиваясь от которых мы становились людьми. Если собрать все то, что у нас вызывает омерзение, окажется, что это свойства тех обезьянолюдей, от которых мы отвернулись и тысячелетиями уходили. Таким образом, мировая история и прогресс самого человека могут быть рассмотрены как оппозиция полярных “они и мы”. Наше мышление является отрицанием и противоположностью психической деятельности этих удален-нейших от нас существ, от которых мы произошли.
ГЛАВА ПЯТАЯ. ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Рабство и освобождение
Горы написанного об историческом прошлом, все, что известно науке о всемирной истории, служит — хоть это может показаться странным — одной-единственной цели: возможности заглянуть в наше будущее.
Вытекает ли из изучения прошлого обоснованное и объективное представление об определенном направлении (векторе) и о кривой нарастания темпа всемирно-исторического движения человечества?
Буржуазные историки в своей значительной части пришли к выводу, что понятие прогресса в таком смысле устарело. Их невысказанная мысль — невозможность познать будущее. Их излюбленный аргумент — многообразие культур и цивилизаций, все полнее раскрываемых историей, археологией и этнографией. А. Тойнби и другие сторонники циклизма согласны видеть лишь относительный прогресс в ходе развития каждой отдельной цивилизации или относительное превосходство нашей западноевропейской цивилизации перед другими. Но идею абсолютного прогресса человечества от древнейших времен до наших дней они отвергают. Им кажется это чем-то очень старомодным, вроде возврата к учению ветхого Гегеля об истории как прогрессе в сознании свободы. Все с сожалением помнят, что у Гегеля не оказалось места для будущего, ибо уже в современном ему прусском государстве он усмотрел венец прогресса — самосознание абсолютной идеи и всеобщую свободу.
Поистине мертворожденна та теория прогресса, которая декларирует его финал в настоящий момент или в близком будущем. Но буржуазных историков тревожат не только прошлые неудачи всяческих теорий прогресса. Они знают, что “есть такая партия” в науке, которая располагает разработанными критериями объективного и абсолютного всемирно-исторического прогресса: исторический материализм Маркса — Энгельса — Ленина. Поэтому буржуазная философия истории переносит акцент на борьбу с фатализмом, который якобы несет в себе всякое научно-историческое прогнозирование будущего. Они хватаются за экзистенциализм, дающий якорь спасения в виде идеи альтернативы: будущее — всегда объект нашего выбора, мы всегда можем пойти одним путем или другим; поэтому объектом науки может быть только прошлое.