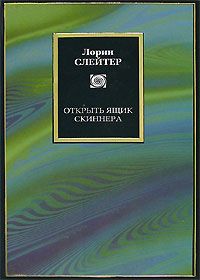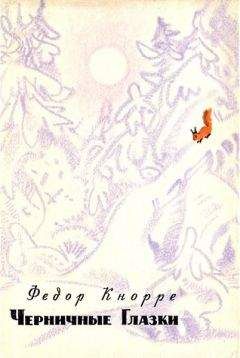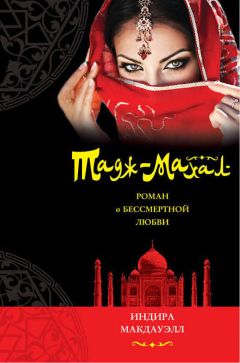В конце концов, похоже, Кандел отдает приоритет силе и важности воспоминаний. В тот солнечный весенний день, когда я посещаю его в кабинете с огромными окнами, он работает над собственными мемуарами.
— Видите, — говорит он, показывая мне на стопку листов бумаги, — это мои мемуары. Я начал их, чтобы, пока не поздно, записать все для моих детей.
Он кладет стопку на кофейный столик рядом со мной. Мне хочется полистать ее и познакомиться с содержанием, но я понимаю, что не могу себе этого позволить.
Кандел отрывает взгляд от манускрипта и смотрит в окно.
— Я был в десяти сантиметрах от Дахау, — говорит он, — и это — одна из причин того, что я всегда стремился получить от жизни все, что могу.
Затем Кандел говорит мне, что через несколько месяцев отправляется в Австрию, что он организует там конференцию. Я предполагаю, что это будет научная конференция, но, когда я спрашиваю об этом, Кандел отвечает отрицательно.
— Австрия, — говорит он, — в отличие от других европейских стран так и не осознала свое прошлое. Я организую конференцию, чтобы помочь стране вспомнить все, что произошло.
Я представляю себе Кандела с огромным шприцем, вводящим Австрии препарат, увеличивающий содержание CREB, чтобы встряхнуть засоренные мозги и заставить вспомнить Хрустальную ночь. Кандел начал свою карьеру с выяснения, как формируется память в одном-единственном нейроне, а заканчивает ее, пытаясь помочь целой стране образовать новые нервные связи, создать национальную сеть синапсов. Открытия, сделанные Канделом в XX веке, одновременно и микроскопичны, и огромны, его подход несомненно является редукционистским, но позволяет увидеть гораздо больше, чем просто сумму отдельных частей.
Через несколько дней после встречи с Канделом я отправляюсь на Кендалл-сквер, где в окружении кофеен и книжных лавок высится Массачусетский технологический институт. Мне нужно попасть в библиотеку, но вместо того чтобы свернуть направо и попасть на Мемориал-драйв, где находится вход в нее, я поворачиваю налево и оказываюсь в путанице узких улочек и аллей кампуса. Я всю жизнь прожила в Бостоне, но никогда не бывала здесь, в утробе науки, где мимо спешат студенты с сотовыми телефонами в руках. Я не знаю, куда иду, просто гуляю, вдыхая еле заметно пахнущий мылом весенний воздух и любуясь цветущими магнолиями, каждый цветок которых не уступит размером артишоку. Я срываю один, размышляя о маленькой красной таблетке Кандела. Может быть, вскоре мы сможем отменить не только старение, но и саму смерть, приняв красную таблеточку. Захотим ли мы этого? Если мы будем знать, что проживем достаточно, чтобы увидеть своих прапраправнуков, скажем ли мы «да»? А сказав «да», не потеряем ли мы своей человеческой сущности: ведь только рождение и смерть придают форму нашей жизни… Чем на самом деле мы являемся, если одобряем и в конце концов используем любое средство, увеличивающее наши возможности? Кандел поднимает нас на новые когнитивные высоты, но в какой-то момент мы можем обнаружить, что вращаемся в пространстве без страховочного троса.
Перед собой я вдруг замечаю очень старого человека, который, держась за сиделку, вышел погреться на солнышке. Рядом с ними высится здание, на дверях которого, сделанных из дымчатого стекла, я, прищурившись, читаю название: «Клиника нервных болезней». Не здесь ли живет Г. М.? И не его ли я вижу перед собой, пусть мне известно, что такое невозможно? Я подхожу поближе. У старика бессмысленные глаза, и мне мерещится, что над ними я вижу просверленные Сковиллем отверстия. Г. М… Он лишился своей личной истории, хоть и поселился навсегда в литературе все более расширяющейся области науки. Это кажется неудачной сделкой, ужасно несправедливой, и тут я понимаю, глядя на старика, что предпочла бы сохранить все воспоминания, чем каждый раз видеть все впервые, заново пробовать на вкус каждый фрукт: удовольствие растворяется во тьме прежде, чем оставляет хоть еле заметный след. Так пусть у нас останутся ощущения, пятна, образы, отпечатки, пусть Кандел, если сумеет, даст нам свое лекарство. Тогда наши воспоминания вернут тех, кто ушел из жизни, вернут их из пропасти забвения, которая ждет нас всех, если мы проживем достаточно долго.
Однако никакое лекарство — в этом я уверена — не сможет до бесконечности отодвигать старческое слабоумие. Может быть, мы живем в эпоху постмодерна, но это не делает нас постчеловечными. Никакая наука не смогла до сих пор освободить нас от плоти. В конце концов свет гаснет, и мы возвращаемся во тьму.
Старик и его сиделка медленно возвращаются к дверям из дымчатого стекла. После их ухода я сморю на дверь, но вижу в ней только свое отражение, и это меня смущает. Должно быть, дело в стекле, но я вижу себя ужасно усталой, с ввалившимися глазами и странными пятнышками на лбу… что это? То ли веснушки, покинувшее свое обычное место, то ли мои престарелые нейроны, плавающие в море коры головного мозга, с синапсами, которые съеживаются у меня на глазах.
Глава 10.
ОТКОЛОТЫЙ
Самое радикальное лечение психических заболеваний
Современные врачи, практикующие психохирургию — лоботомию, лейкотомию, цингулотомию, — утверждают, что это не экспериментальные процедуры; их слова вызывают вопрос: как следовало бы определить этот термин? Если определить экспериментальную процедуру как не принятую в лечебных учреждениях, то психохирургия, несомненно, экспериментальной не является: ее даже покрывают страховые полисы. Тем не менее, как будет показано в этой главе, лоботомия и ее потомок — цингулотомия — совершаются столько же на основе догадок, как и на основе действительного знания; они базируются скорее на мнениях, чем на фактах, и всегда представляют собой непредсказуемое путешествие в серую ткань мозга. Долгая история психохирургии и ее темная репутация наиболее ярко высвечивают, как ни иронично это звучит, центральный этический вопрос, поднятый экспериментальной психологией в XX веке, одновременно закладывая фундамент для будущих раскопок в доступных скальпелю умах человеческих существ.
Часть перваяЕго изображение помещено на португальской марке. Это кажется весьма подходящим местом для отца лоботомии — каждый день сотни людей лижут марку, наклеивают ее, и письмо вверх ногами падает в пещеру почтового ящика, а потом изображенная на марке голова проходит через механизмы для сортировки и упаковки, на нее падают горы других писем, и через несколько дней письмо с маркой, пересеченной линиями штампа с датой, добирается до места назначения.
Антониу Эгаш Мониш, человек, изображенный на марке, получивший в 1949 году Нобелевскую премию за открытие психохирургии, родился в 1874 году в маленькой рыбачьей деревушке недалеко от Лиссабона. Мало что известно о его матери и об обстоятельствах его рождения, но можно себе представить, как сначала показалась головка ребенка, и акушерка, обхватив руками еще мягкий череп, вытащила младенца, как овощ из красной почвы. Отец Мониша принадлежал к землевладельческой аристократии, и дом, в котором рос мальчик, был просторным, с часовней на втором этаже, где в серебряной лампаде всегда горел огонек.
С матерью Мониш не жил, да и с отцом прожил недолго. Свое детство он провел в близлежащем городке со своим дядей священником Абадельде. Как ни странно, дядя не воспитал в мальчике преклонения перед христианскими ценностями — распятым Христом, кротостью, которая будет править миром. Абадельде был одержим славным прошлым Португалии, кровью, пролитой на полях сражений, белыми парусами, как призраки скользящими по синим морям. Он знакомил племянника с шедеврами литературы, и тот мог декламировать эпические поэмы и переводить с латыни еще до того, как пошел в школу; его ум был острым как клинок, отточенный и отшлифованный руками дяди.
Мониш, конечно, поступил в колледж — это было обязательно для людей его круга — и по окончании его решил изучать медицину. В тот год в Лиссабоне стояла суровая зима, даже павлины в дворцовом парке подохли. Руки Мониша оказались поражены подагрой, суставы воспалились и покраснели, пальцы скрючились, как когти. Он никогда полностью не поправился от этой болезни, и через многие годы, делая лоботомию, Мониш был вынужден пользоваться помощью: решающие разрезы делал ассистент, а Мониш смотрел и руководил, и пациент, находящийся в полном сознании, слышал его слова: «Рассекайте нервный ствол. Углубитесь в левую долю. Вы ничего странного не чувствуете, госпожа М.? Сожмите, пожалуйста, руку. Прекрасно, теперь просверлите отверстие с другой стороны».
Но все это еще было в будущем. В конце XIX века Мониш был всего лишь студентом университета в Коимбре с изуродованными руками и страстным желанием оставить свой след в неврологии. Когда острый приступ подагры миновал, Мониш собрал свои вещи и отправился в Париж, где стал учеником Пьера Мари и Жюля Деджерина, чьим учителем был Шарко. Мониш много времени проводил в Сальпетриере, где больные исходили пеной, падали в обморок, дрожали в ознобе; его, должно быть, поражало, какими странными могут быть люди, как страдают их души. Для Мониша было несомненно одно: между разумом и телом нет непреодолимой пропасти. С самого начала она смотрел на душевные болезни как на органические поражения, на продукт путаницы в нервных сетях.