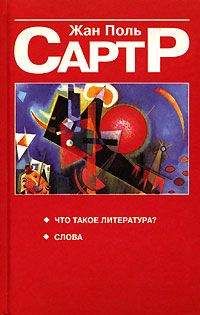Но может иметь место и второй случай: когда образ уже конституирован, я могу сознательно отреагировать на него новым чувством, новым суждением, которое не входит вместе с ирреальным объектом в единство одного и того же конститутивного движения, но четко полагает себя как реакцию, то есть как некое начало, возникновение новой синтетической формы. Например, я могу произвести образ, который сам по себе не несет значительной аффективной нагрузки, и затем негодовать или радоваться по поводу этого ирреального объекта. Допустим, вчера один грациозный жест Анни вызвал во мне порыв нежности. Без сомнения, возрождаясь ныне, моя нежность может в ирреальном плане возродить этот отягощенный эффективностью жест. Не вызывает сомнения и то, что я могу ирреально возродить и этот жест, и эту нежность, причем и то и другое сохранит и свою датировку, и свое «отсутствование».[92] Но возможно также, что я воспроизведу этот жест, чтобы возродить нежность. В таком случае я нацеливаюсь не на вчерашнюю нежность и не на жест Анни сам по себе; я хочу вновь ощутить реальную, настоящую нежность, но аналогичную той, вчерашней. Я хочу, как верно говорят в повседневной жизни, «вернуть» мои вчерашние чувства. Вот эту новую ситуацию мы и хотим рассмотреть более подробно.
Когда мы воспроизводим чарующий жест, взволновавший нас вчера, нам кажется, что возрождаемая ситуация точно та же, что и накануне: этот жест, который в реальности произвел на нас столь сильное впечатление, — почему бы ему, коль скоро он наличествует в образе, не возродить это впечатление теперь? Однако процесс развивается совсем по-иному. В первом случае, то есть вчера, именно этим реальным жестом была вызвана моя нежность. Последняя предстала передо мной совершенно неожиданным, хотя и естественным феноменом. В то же время этот порыв представал то в виде качества объекта, то в своем субъективном аспекте, причем сначала он, по-видимому, выступал именно как нечто объективное. Сегодня, напротив, эта нежность сначала выступает как цель, более или менее ясно различимая; таким образом, рефлексивное знание предшествует самому чувству, а чувство подразумевается в рефлексивной форме. Более того, объект воспроизводится как раз для того, чтобы вновь вызвать чувство. Одним словом, мы уже знаем его связь с этим аффективным состоянием и воспроизводим объект, поскольку ему как одно из его качеств присуща способность возродить этот порыв нежности. Речь, разумеется, идет еще об абстрактном определении, это — некая присущая объекту виртуальность. Но отсюда следует, что воспроизведенный объект уже вовсе не тот, который мы хотели воспроизвести. В самом деле, вчерашний жест дан как то, что спровоцировало мою нежность, только по его совершении, то есть спустя некоторое время и в точности тогда, когда эта нежность появилась. Напротив, сила ирреального объекта появляется вместе с ним как одно из его абсолютных качеств. Одним словом, я предвижу последующее развитие моего аффективного состояния, и любая эволюция этого состояния зависит от моего предвидения. Это не значит, что она всегда повинуется ему, но когда она ему не повинуется, она делает это сознательно.
Но в то же время, мы знаем, что ирреальный объект не может оказывать причинного воздействия; другими словами, он, по всей видимости, не может породить ту нежность, которую я хочу вновь обрести. Коль скоро он восстановлен, нужно, чтобы я сам для себя определил, что при виде его буду испытывать нежность. Одним словом, я буду утверждать, что ирреальный объект воздействует на меня, все еще непосредственно сознавая, что реального воздействия тут нет и, скорее всего, быть не может и что я судорожно пытаюсь своей мимикой изобразить это воздействие. Быть может, чувство, которое я назову нежностью и в котором захочу узнать вчерашний порыв, еще появится. Но оно уже не будет «аффектом», в том смысле, что объект уже не трогает меня (ne m’affecte plus). Кроме того, мое чувство здесь — сама деятельность, сама напряженность; оно скорее разыгрывается, чем ощущается вновь. Я уверяю себя, что нежен, что должен быть нежным, реализую в себе эту нежность. Но эта нежность не выплескивается обратно на ирреальный объект; она не намерена питаться неисчерпаемыми глубинами реального: она приостанавливается, остается отрезанной от объекта; в рефлексии она предстает как попытка вновь обрести связь с тем ирреальным жестом, который остается за ее пределами и которого она не может достигнуть. То, что мы тщетно пытаемся здесь разыграть, — это чувствительность, страстность, в том смысле, который этому термину придавался в XVII веке. Мы могли бы говорить о некоем танце перед лицом ирреального, в стиле балетной группы, танцующей вокруг какой-нибудь статуи. Танцовщицы протягивают руки, улыбаются, предлагают себя целиком, спохватываются и убегают; но статую все это вовсе не трогает: реальной связи между ней и балетной группой нет. Так и наше поведение в отношении объекта, по-видимому, не может его задеть, равно как и он, в свою очередь, не может затронуть нас: ведь он находится в сфере ирреального и совершенно недосягаем.
Все это не означает, что наша нежность недостаточно искренна, ей, скорее, недостает непринужденности, покорности, богатства. Объект не поддерживает ее, не питает, не сообщает ей той силы, той гибкости и той непредсказуемости, которая составляет всю глубину чувства-страсти. Между чувством-страстью и чувством-действием всегда существует та же разница, что и между реальными страданиями больного раком и альгией психастеника, полагающего, что он болен раком. Вне всякого сомнения, в случае альгидной боли мы обнаруживаем абсолютно распоясавшегося индивида, утратившего всякий контроль над собой, обезумевшего от страха, переживаний и отчаяния. Ни его вздрагивания, ни крики, вызванные прикосновением к тому месту, которое он считает больным, — не разыгрываются им в полном смысле этого слова, то есть речь не идет ни о «людизме», ни о мифомании. Вполне возможно, что несчастный не может удержаться от воплей и, может быть, он еще менее мог бы удержаться от них, если бы страдал реально. Но все это — и его вздрагивания, и его крики — не может придать реальность его страданиям. Боль, без сомнения, присутствует, но она перед ним, это боль в образе, недействительная, пассивная, ирреальная боль; в виду ее он сражается с самим собой, но ни один из его криков, ни один из его жестов не спровоцирован ею. И в то же время он знает об этом, знает, что не страдает; вся его энергия — в отличие от подлинного больного раком, который будет рассчитывать на уменьшение страданий, — расходуется на то, чтобы страдать и дальше; он кричит для того, чтобы вызвать боль, его жестикуляция приглашает боль поселиться в его теле. Но тщетно — нет ничего, что могло бы заполнить то гнетущее впечатление пустоты, которое конституирует и саму причину, и глубинную природу кризиса.
Из всего вышесказанного можно заключить, что чувства, испытываемые перед лицом реального, по своей природе отличны от чувств, испытываемых перед лицом воображаемого. Например, любовное чувство полностью меняется в зависимости от того, присутствует или отсутствует ее объект.
Когда Анни уходит, мои чувства к ней изменяют свою природу. Конечно, я по-прежнему называю их «любовью»; конечно, я отрицаю это изменение, уверяю себя, что люблю Анни столь же сильно, как и в ее присутствии. Но дело обстоит совсем иначе. Разумеется, знание и общее поведение остаются без изменений. Я знаю, что Анни присуще то или иное качество, я продолжаю доверять ей, например пишу ей обо всем, что со мной происходит; если представится такой случай, я буду защищать ее интересы, как если бы она находилась рядом со мной. Кроме того, следует признать наличие аутентичных чувств-страстей — грусти, меланхолии и даже отчаяния, в которое меня повергает ее отсутствие. В самом деле, в большей мере, чем ирреальная и отсутствующая Анни, их провоцирует именно наличная и реальная пустота, образовавшаяся в нашей жизни, например, именно тот факт, что едва намеченные нами жесты и позы вновь отбрасываются, не достигнув цели, оставляя у нас невыносимое впечатление своей тщетности. Но все это вместе представляет собой, в некотором роде, негатив любви. Далее, позитивный элемент (мой порыв к Анни) глубоко модифицируется. Моя любовь-страсть была подчинена своему объекту: я всегда узнавал ее как таковую, она всегда меня застигала, каждую минуту я должен был воспроизводить ее, вновь приспосабливаться к ней: она жила жизнью самой Анни. Пока можно было считать, что образ Анни есть не что иное, как возрождающаяся Анни, могло казаться очевидным, что последняя будет вызывать во мне почти те же реакции, что и подлинная Анни. Но теперь мы знаем, что Анни в образе не сопоставима с той Анни, которая присутствует в восприятии. Она претерпела ирреальную модификацию, и соответствующим образом было модифицировано наше чувство. Прежде всего, оно остановилось', оно больше не «воспроизводит себя», оно едва обнаруживается в тех формах, которые принимало прежде, оно стало как бы схоластическим, ему можно дать имя, классифицировать его проявления: они не выходят за пределы их дефиниции, они строго ограничены нашим знанием о них. В то же время чувство вырождается, ведь его богатство, его неисчерпаемая глубина были обусловлены объектом: в объекте всегда было больше черт, достойных любви, чем тех, которые я любил на самом деле, и я это знал, так что любовь, какой она представлялась перед лицом реального, была подчинена тематическому единству одной идеи, в кантианском смысле: идеи о том, что как индивидуальная реальность Анни неисчерпаема, и соответственно неисчерпаема моя любовь к ней. Итак, чувство, которое каждую минуту превосходило самое себя, было окружено широким кругом возможностей. Но эти возможности исчезли точно так же, как и реальный объект. В результате сущностной инверсии именно чувство производит теперь свой объект, а ирреальная Анна есть не что иное, как строгий коррелят моих чувств к ней. Отсюда следует, что чувство — всегда есть лишь то, что оно есть. Теперь его глубинная основа оскудевает. Наконец, оно из пассивного становится активным: оно разыгрывает себя, оно изображает себя с помощью мимики; его желают, ему верят. В каждый момент оно предстает как усилие, направленное на то, чтобы возродить Анни во плоти, поскольку хорошо знает, что тогда оно вновь овладело бы и ее телом, реинкарнировалось бы в нем. Чувство мало-помалу будет становиться все более схематичным, пока не приобретет застывшие формы, а образ Анни соответственно будет становиться все более банальным.[93]