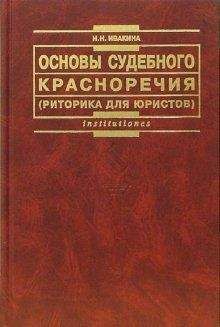С другой стороны, возьмите captatio benevolentiae *(135) перед враждебно настроенными присяжными; там уже не так просто будет отделить лесть от благородства. Представим себе, что на судебном следствии неожиданно открылось обстоятельство, в высшей степени неблагоприятное для оратора: свидетель-очевидец уличен во лжи, свидетель, удостоверявший алиби, отказался от своего показания. Оратор встревожен, ибо он убежден в своей правоте. Если он даст присяжным заметить свое волнение, он искусственно усилит невыгодное для него впечатление; поэтому он, конечно, будет стараться казаться спокойным. Скажут: это самообладание.– Да, изредка; но в большинстве случаев это притворство.
Проф. Л. Владимиров в статье "Реформа уголовной защиты" говорит: "Можно и даже должно уважать защиту как великое учреждение; но не следует ее превращать в орудие против истины. Не странно ли слышать от такого процессуалиста, как Глазер ("Handbuch des Strafprozesses"), что он вполне одобряет прием защиты, состоящий в замалчивании каких-либо сторон в деле в тех случаях, когда защитник это находит выгодным? Неужели же в самом деле защита есть законом установленные и наукой одобренные приемы для наилучшего введения судей в заблуждение? Нам кажется, что защита имеет целью выяснить все то, что может быть приведено в пользу подсудимого согласно со здравым смыслом, правом и особенностями данного случая. Но полагать, что и молчание для затушевывания истины входит в приемы защиты, значит заходить слишком далеко в допущении односторонности защиты.
Защита, конечно, есть самооборона на суде. Но судебное состязание не есть бои, не есть война; средства, здесь дозволяемые, должны основываться на совести, справедливости и законе. Хитрость едва ли может быть допускаема как законное средство судебного состязания. Если военные хитрости терпятся, то судебные вовсе не желательны".
Это кажется очень убедительным, а самый вопрос имеет важнейшее значение. Прав или нет проф. Владимиров? Если защитник не имеет нравственного права умалчивать или замалчивать (дело не в словах) обстоятельства и соображения, изобличающие подсудимого, это значит, что он обязан напомнить их присяжным, если обвинитель упустил их из виду. Например: прокурор указал вам на некоторые незначительные разногласия в объяснениях подсудимого на суде; но если вы вспомните его объяснения, занесенные в обвинительный акт, вы убедитесь в еще более важных противоречиях, или обвинитель доказал вам нравственную невозможность совершения преступления лицом, изобличаемым подсудимым; я, согласно с современной теорией уголовной защиты, докажу вам физическую невозможность этого; прокурор назвал двух свидетелей, удостоверяющих внесудебное сознание подсудимого; я напомню вам, что свидетель N подтвердил это признание на суде, и т. д.
Если защитник будет говорить так, он, очевидно, станет вторым обвинителем и состязательный процесс превратится в сугубо розыскной. Это невозможно. Но в таком случае не следует ли применить это же рассуждение и к обвинителю? Не имеет ли и он права замалчивать факты, оправдывающие подсудимого, рискуя осуждением невинного?
Ответ напрашивается сам собой. Оправдание виновного есть незначительное зло по сравнению с осуждением невинного. Но, оставляя в стороне соображения отвлеченной нравственности, как и соображения целесообразности, заглянем в закон. В ст. 739 Устава уголовного судопроизводства сказано: "Прокурор в обвинительной речи не должен представлять дело в одностороннем виде, извлекая из него только обстоятельства, уличающие подсудимого, ни преувеличивать значение имеющихся в деле доказательств и улик или важности рассматриваемого преступления".
Статья 744 говорит: "Защитник подсудимого объясняет в защитительной речи все те обстоятельства и доводы, которыми опровергается или ослабляется выведенное против подсудимого обвинение". Сопоставление этих двух статей устраняет спор: законодатель утвердил существенное различие между обязанностями обвинителя и защитника.
Суд не может требовать истины от сторон, ни даже откровенности; они обязаны перед ним только к правдивости. Ни обвинитель, ни защитник не могут открыть истину присяжным; они могут говорить только о вероятности. Как же ограничивать им себя в стремлении представить свои догадки наиболее вероятными?
Закон, как вы видели, предостерегает прокуратуру от односторонности в прениях. Требование это очень нелегко исполнить. А. Ф. Кони давно сказал, что прокурор должен быть говорящим судьей, но даже в его речах судья не раз уступает место обвинителю. Это кажется мне неизбежным, коль скоро прокурор убежден, что только обвинительный приговор может быть справедливым. Насколько могу судить, эта естественная односторонность в значительном большинстве случаев не нарушает должных границ; но не могу не обратить здесь внимание наших обвинителей, особенно начинающих товарищей прокурора, на одно соображение.
В провинции многие уголовные дела разбираются без защиты; в столичных губерниях защитниками бывают неопытные помощники присяжных поверенных; это часто оказывается еще хуже для подсудимых. Своими неумелыми вопросами они подчеркивают показания свидетелей обвинения, изобличают ложь подсудимых и их свидетелей; незнанием и неверным пониманием закона раздражают судей; несостоятельными доводами и рассуждениями подкрепляют улики и легкомысленным требованием оправдания озлобляют присяжных. В словах этих нет преувеличения, ручаюсь совестью. Председатель может быть просвещенным судьей, но может оказаться не совсем беспристрастным, или несведущим, или просто ограниченным человеком. Вот когда надо стать говорящим судьей, чтобы не сделать непоправимой ошибки "с последствиями по 25 ст. Уложения о наказаниях", то есть каторгой или хотя бы с чрезмерно строгим наказанием осужденного.
Я сказал, что от представителя стороны в процессе нельзя требовать безусловной откровенности. Что если бы нам когда-нибудь довелось услыхать на прокурорской трибуне вполне откровенного человека?
"Господа присяжные заседатели! – сказал бы он.– Проникнутый возвышенной верой в людей, в человеческий разум и совесть, законодатель даровал нам свободный общественный суд. Действительность жестоко обманула его ожидания. В Европе преимущества суда присяжных вызывают большие сомнения. У нас таких сомнений быть не может. Ежедневный опыт говорит, что для виновного выгодно, для невинного опасно судиться перед присяжными. Это и не удивительно. Наблюдение жизни давно убедило меня, что на свете больше глупых, чем умных, людей. Естественный вывод – что и между вами больше дураков, чем умных людей, и, взятые вместе, вы ниже умственного уровня обыкновенного здравомыслящего русского обывателя. Если бы у меня сохранились какие-нибудь наивные самообольщения по этому поводу, то частью нелепые, частью бессовестные решения ваши по некоторым делам этой сессии открыли бы мне глаза".
Несомненно, что во многих случаях такого рода вступление было бы самым правдивым выражением мыслей оратора; но действие такого обращения на присяжных также не подлежит сомнению.
Представим себе такую речь: "Господа сенаторы! Кассационный повод, указанный в моей жалобе, составляет существенное нарушение закона. Но я знаю, что это обстоятельство не имеет для вас большого значения. В сборниках кассационных решений, а особенно в решениях ненапечатанных, есть немало приговоров, отмененных Сенатом по нарушениям, признанным не существенными в ваших руководящих решениях, и есть десятки приговоров, оставленных в силе, несмотря на нарушения, многократно признанные недопустимыми. С другой стороны, я также знаю, что, хотя закон и воспрещает вам входить в оценку дела по существу, вы часто решаете его именно и исключительно на основании такой оценки. Поэтому я не столько буду стараться доказать вам наличность кассационного повода, сколько убедить вас в несправедливости или нецелесообразности приговора".
Остановитесь немного на этих двух примерах, читатель. Я не хочу сказать, что всякий думает так, как мои воображаемые ораторы; но тот, кто так думает, имеет право не высказывать этого и сделал бы глупость, если бы сказал. Отсюда неизбежный вывод: в искусстве красноречия некоторая доля принадлежит искусству умолчания. Как же далеко могут идти в искусственных риторических приемах обвинитель и защитник на суде? Повторяю, здесь нельзя указать формальной границы: врач, который лжет умирающему, чтобы получать деньги за бесполезное лечение,– негодяй; тот, который лжет, чтобы облегчить его последние минуты, поступает, как друг человечества. Судебный оратор не может лгать, но за этим требованием он в каждом отдельном случае сам свой высший судья в том, на что имеет нравственное право в интересах общества или отдельных людей и что недопустимо для него: