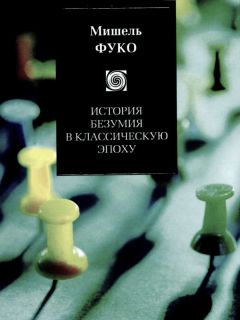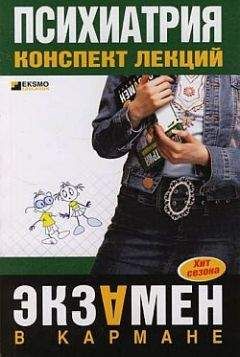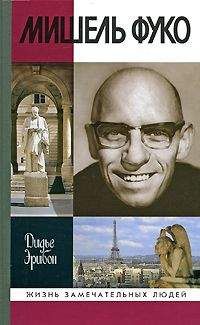имманентно: возникая вновь, они не становятся единственно возможной комбинацией, это лишь мимолетное пристанище неких исходных черт. Мы еще не успели усвоить опыт средневековья, античности и первобытной древности, а нас уже влечет неумолимый поток прогресса, стремительно рвущийся вперед, в будущее, и мы вслед за ним все больше и больше отрываемся от своих естественных корней. Мы отрываемся от прошлого, и оно умирает в нас, и удержать его невозможно. Но именно утрата этой преемственности, этой опоры, эта неукорененность нашей культуры и есть ее так называемая «болезнь»: мы в суматохе и спешке, но все более и более живем будущим, с его химерическими обещаниями «золотого века», забывая о настоящем, напрочь отвергая собственные исторические основания. В бездумной гонке за новизной нам не дает покоя все возрастающее чувство недостаточности, неудовлетворенности и неуверенности. Мы разучились жить тем, что имеем, но живем ожиданиями новых ощущений, живем не в свете настоящего дня, но в сумерках будущего, где в конце концов – по нашему убеждению – взойдет солнце. Зачем нам знать, что лучшее – враг хорошего и стоит слишком дорого, что наши надежды на большие свободы обернулись лишь большей зависимостью от государства, не говоря уже о той ужасной опасности, которую принесли с собой выдающиеся научные открытия. Чем менее мы понимаем смысл существования наших отцов и прадедов, тем менее мы понимаем самих себя. Таким образом отдельный человек теряет навсегда последние родовые корни и инстинкты, превращаясь лишь в частицу в общей массе и следуя лишь тому, что Ницше назвал «Geist der Schwere», духом тяжести.
Опережающий рост качества, связанный с техническим прогрессом, с так называемыми «gadgets», [11] естественно, производит впечатление, но лишь вначале, позже, по прошествии времени, они уже выглядят сомнительными, во всяком случае, купленными слишком дорогой ценой. Они не дают счастья или благоденствия, но в большинстве своем создают иллюзорное облегчение; как всякого рода сберегающие время мероприятия они на поверку до предела ускоряют темп жизни, оставляя нам все меньше и меньше времени. «Omnis fastinatio ex parte – diaboli est» («всякая спешка – от дьявола»), как говорили древние.
Изменения же обратного свойства, напротив, как правило, дешевле обходятся и дольше живут, поскольку возвращают нас к простому, проверенному пути, сокращая наши потребности в газетах, радио, телевидении и в прочих, якобы сберегающих наше время, нововведениях…
Мы гораздо лучше слышим и гораздо лучше видим, если нас не зажимают в тисках настоящего, если нас не ограничивают и не преследуют нужды этого часа и этой минуты, заслоняя собственно саму минуту и образы, и голоса бессознательного. Так мы остаемся в неведении, даже не предполагая, насколько в нашей жизни присутствует мир наших предков с его элементарными благами, не задумываясь, отделены ли мы от него непреодолимой стеной. Наш душевный покой и благополучие прежде всего обусловлены тем, в какой мере исторически унаследованные фамильные черты согласуются с эфемерными нуждами настоящего момента.
* * *
Каждый раз, когда возникает потребность взглянуть на вещи критически, нужно смотреть на них со стороны. Как, например, возможно полностью осознать национальные особенности, если мы не можем взглянуть на свой народ со стороны? А это означает – смотреть на него с точки зрения другого народа. И чтобы опыт удался, необходимо получить более или менее удовлетворительное представление о другом коллективном сознании, причем в процессе ассимиляции нам придется столкнуться со многими необычными вещами, которые кажутся несовместимыми с нашими понятиями о норме, которые составляют так называемые национальные предрассудки и определяют национальное своеобразие. Все, что не устраивает нас в других, позволяет понять самих себя. Я начинаю понимать, что есть Англия, лишь тогда, когда я как швейцарец испытываю неудобства. Я начинаю понимать Европу (а это наша главная проблема), если вижу то, что раздражает меня как европейца. Среди моих знакомых много американцев. Именно поездка в Америку дала мне возможность критически подойти к европейскому характеру и образу жизни; мне всегда казалось, что нет ничего полезнее для европейца, чем взглянуть на Европу с крыши небоскреба. Впервые таким образом я воображал европейскую драму, будучи в Сахаре, когда меня окружала цивилизация, отдаленная от европейской приблизительно так же, как Древний Рим – от Нового Света. Тогда мне стало понятно, до какой степени – даже в Америке – я все еще стеснен и замкнут в рамках культурного сознания белого человека. И тогда у меня появилось желание углубить эту историческую аналогию, спустившись еще ниже по культурной лестнице.

Мексиканский индеец
Оказавшись в Америке в следующий раз, я вместе с американскими друзьями посетил Нью-Мехико, город, основанный индейцами пуэблос. Впрочем, «город» – это слишком сильно сказано, на самом деле это просто деревня, но дома в ней, скученные, густозаселенные, выстроенные один над другим, позволяют говорить о «городе», тем более что так его название звучит на их языке. Так впервые мне удалось поговорить с неевропейцем, то есть не с белым. Это был вождь племени Тао, человек лет сорока или пятидесяти, умный и проницательный, по имени Охвия Биано (Горное Озеро). Я говорил с ним так, как мне редко удавалось поговорить с европейцем. Разумеется, и он жил в своем собственном мире, как европеец – в своем, но что это был за мир! В беседе с европейцем вы, словно песок сквозь пальцы, пропускаете общие места, всем известные, но тем более никому не понятные; здесь же – я словно плыл по глубокому неведомому морю. И неизвестно, что доставляет больше наслаждения, – открывать для себя новые берега или находить новые пути в познании вещей давно известных, пути древние и практически забытые.
«Смотри, – говорил Охвия Биано, – какими жестокими кажутся белые люди. У них тонкие губы, острые носы, их лица в глубоких морщинах, а глаза все время чего-то ищут. Чего они ищут? Белые всегда чего-то хотят, они всегда беспокойны и нетерпеливы. Мы не знаем, чего они хотят. Мы не понимаем их. Нам кажется, что они сумасшедшие». Я спросил его, почему он считает всех белых сумасшедшими? «Они говорят, что думают головой», – ответил вождь. «Ну, разумеется! А чем же ты думаешь?» – удивился я. «Наши мысли рождаются здесь», – сказал Охвия, указывая на сердце.
Я был ошеломлен услышанным. Первый раз в жизни (так мне казалось) мне нарисовали истинный портрет белого человека; у меня было такое чувство, будто до этого я не видел ничего, кроме размалеванных сентиментальных картинок.
Этот индеец отыскал наше самое уязвимое место, увидел нечто такое, чего не видим мы. У меня возникло