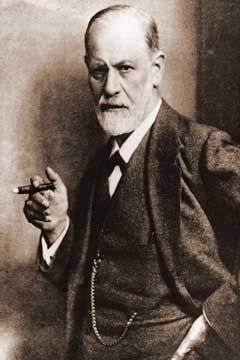высоко установить планку нравственных требований и тем самым принудить своих сторонников еще больше отдалиться от своей природной организации. Установленная же планка обязывала продолжительное время подавлять влечения, а возникающее при этом напряжение дает о себе знать в виде самых удивительных реакций и компенсаций. В области сексуальности, где такое подавление дается труднее всего, это оборачивается появлением противодействующих структур в форме невротических заболеваний. Давление культуры в других областях обходится, правда, без патологических последствий, но проявляется в искажениях характера и постоянной готовности заторможенных влечений добиться при подходящем случае удовлетворения. Тот, кто вынужден долгое время реагировать согласно предписаниям, не соответствующим его природным склонностям, тот живет, рассуждая психологически, не по средствам, и его можно объективно назвать притворщиком независимо от того, осознал ли он ясно упомянутое различие или нет. Безусловно, наша нынешняя культура благоприятствует формированию такого рода притворства в исключительной степени. Можно было бы отважиться на утверждение, что она воздвигнута на нем и вынуждена была бы смириться с основательными переделками себя, если бы люди попытались жить психологически искренне. А стало быть, существует несравненно больше культурных притворщиков, чем по-настоящему культурных людей. Более того, можно обсудить такую точку зрения: не нужна ли для сохранения культуры известная доля культурного лицемерия, поскольку сложившаяся у ныне живущих людей пригодность к культуре, похоже, недостаточна для ее успехов. С другой стороны, хотя и по столь же сомнительным основаниям, сохранение культуры обеспечивает формирование у каждого нового поколения (возможного носителя более развитой культуры) продолжения преобразования влечений.
Благодаря предыдущим рассуждениям мы уже обрели одно утешение: наша тревога и болезненное разочарование по поводу результатов бескультурного поведения наших земных сограждан в этой войне несправедливы. Они порождены пленившей нас иллюзией. На самом деле эти сограждане не так низко пали, как мы опасаемся, поскольку не так высоко возвысились, как мы о них думали. То, что крупные субъекты человечества – народы и государства – отказались от моральных ограничений в отношениях друг с другом, стало для них импульсом для уклонения на некоторое время от существующего давления культуры и предоставления сдерживаемым ею влечениям временного удовлетворения. При этом относительная нравственность внутри населяющих их народностей, вероятнее всего, не рухнула.
Мы, однако, способны глубже понять изменения, которые война выявила в наших бывших соотечественниках, и при этом усвоить предостережение не относиться к ним несправедливо. Ведь развитие психики обладает своеобразием, отсутствующим в любом другом процессе развития. Если деревня перерастает в город, а мальчик – в мужчину, то при этом и деревня, и ребенок растворяются соответственно в городе и во взрослом человеке. Только память способна выделить былые черты в новом облике, на самом-то деле старые материалы и формы растворяются и заменяются новыми. Иное дело – психическое развитие. Не поддающуюся сравнению ситуацию можно описать только с помощью утверждения, что любая более ранняя ступень развития продолжает существовать рядом с более поздней, из нее возникшей. Последовательная смена форм обусловливает и их одновременное существование, – правда, вся цепочка смены форм протекает на основе одних и тех же материалов. Более раннее психическое состояние могло годами не проявлять себя, продолжая тем не менее в определенном смысле существовать, чтобы в один прекрасный день снова стать формой проявления психических сил и при этом единственной, словно все более поздние ступени развития были аннулированы. Эта необычная пластичность процессов психического развития не ограничивается их направленностью, ее можно характеризовать еще и как особую способность к обратному развитию – к регрессии, если дело складывается так, что более позднюю и высокую ступень развития, которая была пройдена, не удается достигнуть вновь. Однако ее примитивные состояния опять и опять восстанавливаются, так что первоначальное в психике непреходяще в самом точном смысле этого слова.
Так называемые душевнобольные должны вызывать у дилетанта впечатление, будто духовная и психическая жизнь подверглась разрушению. В действительности же были разрушены только более поздние приобретения и построения. Сущность психической болезни заключается в возврате к более ранним состояниям эмоциональной жизни и психических функций. Превосходный пример пластичности психики предлагает состояние сна, в которое мы еженощно стремимся впасть. С тех пор как мы научились интерпретировать даже безумные и запутанные сновидения, нам стало известно, что вместе с каждым засыпанием мы сбрасываем, подобно одежде, нашу с трудом приобретенную нравственность, чтобы утром снова ее надеть. Разумеется, это раздевание не представляет опасности, поскольку в состоянии сна мы ограничены в движениях и обречены на бездеятельность. Только сновидение способно предоставить сведения о регрессе нашей эмоциональной жизни к одной из самых ранних ступеней развития. Особенно, скажем, заслуживает внимания то, что все наши сны подчинены чисто эгоистическим мотивам. Один мой английский друг предложил подобное утверждение вниманию научного собрания в Америке, по его поводу одна из присутствующих дам заметила, что, быть может, это верно для Австрии, однако, что касается ее самой и ее друзей, она смеет утверждать, что даже во сне они чувствуют себя альтруистами. Моему другу, хотя он и сам принадлежал к англосаксам, пришлось на основе собственного опыта в толковании сновидений возразить: мол, во время сна даже благородная американка так же эгоистична, как и австриец.
Итак, даже преобразованные влечения, на которых основана наша пригодность к культуре, способны под действием условий жизни двигаться вспять. Безусловно, влияние войны принадлежит к тем силам, которые в состоянии вызвать такое обратное движение, и поэтому всем, кто в данный момент ведет себя некультурно, не стоит отказывать в этой пригодности, а стоит ожидать, что в более спокойные времена «окультуренность» их влечений снова вернется к ним.
Вполне, однако, возможно, что другой признак наших сограждан по планете удивит и устрашит нас не меньше, чем воспринимаемое весьма болезненно падение с высот нравственности. Я имею в виду безрассудность, обнаруживаемую у самых лучших умов, их закостенелость, невосприимчивость к самым убедительным аргументам, их некритичность и доверчивость к самым сомнительным утверждениям. Разумеется, в итоге перед нами оказывается печальная картина, но я решительно хочу подчеркнуть, что никоим образом, подобно слепому приверженцу одной стороны, не отношу все интеллектуальные промашки только к одной из них. Однако это явление удается объяснить заметно легче, и оно гораздо менее опасно, чем обсуждавшиеся ранее. Человековеды и философы издавна учили нас, что мы были не правы, оценивая интеллект как самостоятельную силу и упуская из вида его зависимость от жизни эмоций. Наш интеллект способен надежно работать только тогда, когда далек от сильного воздействия чувств, в противном случае он ведет себя просто как инструмент в руках воли и приводит к результату, навязанному ему ей. И стало быть, логические аргументы бессильны перед страстями, а по этой причине