Роль «местных слов» может быть двоякой. В одних случаях диалектизмы помогают писателю наметить основной языковой «тон» будущего повествования и вместе с тем закрепить в памяти характерные особенности происходящего. «Это, — говорит Стендаль, — местные выражения; сохраняю их с тем, чтобы лучше вспоминать подробности, которые толпой приходят мне на память». В других случаях провинциализмы имеют не столько «меморативную», служащую воспоминаниям, сколько характеристическую функцию, как выразительный языковой орнамент, сообщающий речи выразительность. Однако и в этом отношении писателю бывает необходимо соблюдать меру. Так же, как и в отношении профессионализмов, ему грозит здесь вполне реальная опасность чрезмерно увлечься местными «говорами» и перегрузить ими речь. Чехов указывает Щеглову: «...Всю музыку Вы испортили провинциализмами, которыми усыпана вся середка. Кабачки, отчини дверь, говорить и проч. — за все это не скажет Вам спасиба великоросс... Язык щедро попорчен». Эти тенденции к созданию диалектной по преимуществу речи в 20–30-е годы проявились у таких советских писателей, как Пермитин, Замойский, Панферов и другие.
Любопытно, что за восемьдесят лет до Горького ту же борьбу с неоправданным пользованием диалектизмами вел Белинский. После того как в «Современнике» появилось несколько рассказов из цикла «Записок охотника», Белинский писал П. Б. Анненкову: «Да удержите этого милого младенца от звукоподражательной поэзии — Ррркалиооон! Че-о-эк. Пока это ничего, да я боюсь, чтоб он не пересолил, как он пересаливает в употреблении слов орловского языка...» Тургенев понял справедливость этих советов и не только учел их в работе над дальнейшими звеньями своего цикла, но и существенно переработал для второго издания уже напечатанные рассказы. Пятнадцатилетием ранее то же очищение своего языка провел Гоголь — в черновой рукописи «Сорочинской ярмарки» диалектизмов было гораздо больше, чем в печатном тексте этой повести.
И даже Решетников, писания которого дворянская критика презрительно третировала как литературу «толды и колды», вынужден был существенно поступиться своими диалектизмами и точной фонетической их записью («ишшо», «бат», «ись» и т. и.) все в тех же интересах понятности. Правда, позиция Решетникова в этом вопросе не отличалась последовательностью. В одних случаях он не раз фонетически точно воспроизводил речь своих коми-пермяцких персонажей и усиливал диалектную окраску повествования. Вместо: «Я точно больно хвораю» Решетников писал, например: «Я тожно беда нутро», вместо «болезнь» — «болесть», вместо «все хворает» — «хворат» и т. д. В других случаях он уничтожал при переработке первоначальные провинциализмы, устраняя вместе с ними, в интересах понятности, и старые лексические формы.
Против неоправданного изобилия диалектизмов со всей энергией выступал Горький. Вс. Иванову он еще в 1917 году говорил: «Язык у вас яркий, но слов — мало, и вы часто употребляете слова нелитературные, местные. Они хороши в диалогах, но не годятся в описаниях». В статье 1933 года он заявлял: «Местные речения, «провинциализмы», очень редко обогащают литературный язык, чаще засоряют его, вводя нехарактерные, непонятные слова». Те же упреки Горький делал и отдельным литераторам: «Вы злоупотребляете местными речениями»; «...вы слишком часто берете местные речения, понятные в Рязани, но чуждые Пскову»; «Большая ошибка — писать словами, которые понятны лишь населению одной губернии. Так вот написан «Цемент» Гладкова, и это очень испортило его хорошую книгу». И о том же самому Гладкову: «действие «Цемента» происходит в Новороссийске, как я понимаю. За Новороссийском стоит огромная разноречивая, разноязычная Россия. Ваш язык трудно будет понять псковичу, вятичу, жителям верхней и средней Волги. И здесь вы, купно со многими современными авторами, искусственно сокращаете сферу влияния вашей книги, вашего творчества. Щегольство местными жаргонами, речениями — особенно неприятно и вредно именно теперь, когда вся поднятая на дыбы Россия должна хорошо слышать и понимать самое себя». Последняя фраза Горького полна особенно глубокого смысла.
Примечательна та борьба с диалектизмами, которую не так давно провел Шолохов в романе «Тихий Дон». Сравнивая тексты первой части романа, мы видим, как настойчиво сначала приближал писатель свой язык к общелитературной речи нашего времени. Это в основном касается языка автора, но не его одного: Шолохов стремился к тому, чтобы его действующие лица были понятны широкому советскому читателю. Областное слово «жито» было им заменено на «рожь», «ожерелок» на «ворот», «кочетов» на «петухов», «телешами» на «голыми», «супесь» на «песок», «зыркнул» на «оглянулся», «гребтилось» на «хотелось», «взгальный» на «бешеный», «кобаржина» на «хребет», «громышков» на «бубенцов», «загоцали» на «затопали» и т. д. Правка Шолохова касалась и тех случаев, когда слово, приведенное им с излишней фонетической точностью, могло затруднить массового читателя. Так, он правил «доисть» на «доест», «ишшо» на «еще», «ить» на «ведь» и др. Устранялись даже такие широко понятные слова, как «батя» (вместо него «отец»), «посля» (вместо него — «потом»), «бураковатый» (от «бурак») изменено на «свекольный».
Один из писателей, выступавших на Втором съезде, высказал мнение, что, хотя язык действующих лиц «Тихого Дона» и «был очищен от местных речений», он «в некоторых случаях... оказался тусклее, невыразительнее...» По-видимому, к таким же выводам пришел и сам Шолохов. По крайней мере, в последнем, восьмитомном издании своих сочинений (1958–1960) он восстановил множество слов, взятых из диалектного фонда языка донских казаков. В этой последней редакции «Тихого Дона» Пантелей Мелехов говорит «надысь», Дуняшка — «ажник», Петр — «ить», Ильинична — «охолонь трошки» и т. д. Таким образом, Шолохов в конце концов сохраняет — в интересах местного колорита — диалектную речь в языке героев «Тихого Дона».
В работе над словарем писатель стремится к некоторой норме языка, не загроможденного местными речениями. Золя недаром радовался, что у него для романа «Земля» подготовлено «все, что нужно: крупное и мелкое хозяйство, типично французская провинция, центральный, очень характерный пейзаж, жизнерадостное население, говорящее на чистом языке, а не на диалекте». Из этой цитаты особенно очевидно, что заботы писателя о чистоте словаря неразрывно связаны с заботами о его типичности: отсутствие «патуа» — деревенского наречия — должно было способствовать общепонятности будущего романа, точности и выразительности его языковых характеристик.
Из этого настороженного отношения к «говорам» никак не следует делать вывода, что писатель не должен стремиться к живой и непринужденной, разговорной речи. Все дело в том, чтобы писатель ощущал естественные границы своего лексического фонда, в том, чтобы, полный элементов «просторечия», язык писателя в то же самое время не потерял литературности. Короленко одобрял произведение молодого автора за то, что в нем есть «хороший язык, питающийся местным говором, как раз в меру». Даже уклонившись однажды от этого единственно верного пути, писатель может вернуться на правильную дорогу, если только он обладает достаточным вкусом.
Часто писателю не хватает имеющихся в его распоряжении средств родного языка. Заимствовать требуемое слово из-за рубежа он по тем или иным соображениям не хочет и начинает выдумывать новые, дотоле еще никогда не существовавшие, слова. Горький вспоминал, как он в молодости стремился «выдумывать новые слова», «исписывая ими целые тетради». Этим уже в зрелые годы занимались такие поэты, как Бенедиктов и Бальмонт. Далеко не все их неологизмы вошли в литературу. Неологизм входит в литературный язык лишь в том случае, когда он удовлетворяет уже наметившимся в обществе потребностям выражения того, что еще не было охарактеризовано в языке. Таков один из неологизмов Достоевского, которым писатель гордился чрезвычайно. «Мне, — говорил он, — ...удалось ввести совсем новое словечко в русскую речь, и когда я встречал это словцо в печати, то всегда ощущал самое приятное впечатление». Глагол «стушеваться» в самом деле вошел в плоть и кровь русского литературного языка, разительно отличаясь в этом плане от других неологизмов Достоевского — «сочувственник», «инфернальннца».
Особой, современной нам, разновидностью неологизмов было выдумывание новых слов, якобы находившихся в глубоком созвучии с духом русского языка. И здесь Горький снова высказал свое суровое и отрезвляющее мнение. Он подверг резкой критике выдуманное Панферовым слово «скукожился». «...Признано, — заметил Горький, — что народный русский язык, особенно в его конкретных глагольных формах, обладает отличной образностью. Когда говорится: съ-ежил-ся, с-морщил-ся, с-корчил-ся и т. д., мы видим лица и позы. Но я не вижу, как изменяется тело и лицо человека, который «скукожился». Глагол «скукожиться» сделан явно искусственно и нелепо, он звучит так, как будто в нем соединены три слова: скука, кожи, ожил». В «Открытом письме А. С. Серафимовичу» Горький сурово критиковал проявления «словесного штукарства», «дикие словечки», образцы «идиотического» языка в произведениях Пермитина и других. «От жизни вами, — писал Горький Ряховскому, — хорошо взято словечко «доделиста». Умейте различать, что звучит крепко и дано надолго, от словесной пыли, которую завтра бесследно разнесет холодный ветерок разума, любителя точности и ясности».
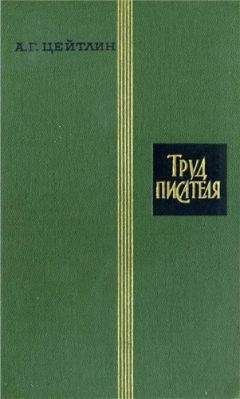
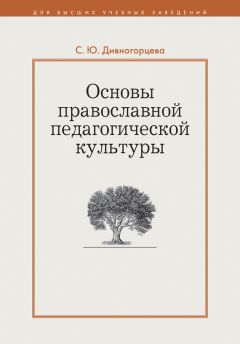
![Вадим Георгиенко - Навстречу людям. Шаг за шагом[практические механизмы участия общественности в процессах принятия решений на местном уровне]](https://cdn.my-library.info/books/167548/167548.jpg)


