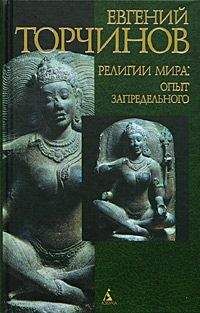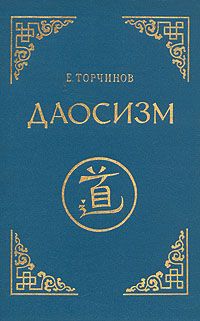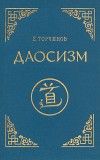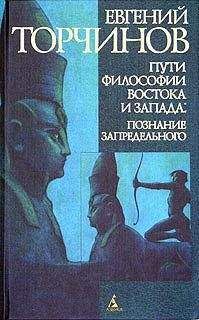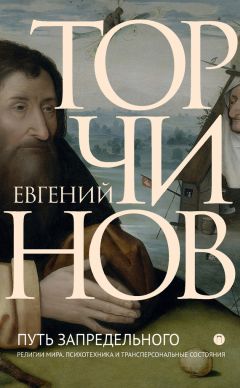Первым и важнейшим положением учения Шопенгауэра является тезис о том, что кантовская «вещь в себе» (или, правильнее, «вещь сама по себе») есть не что иное, как воля, приобретающая, таким образом, статус единственной реальности. Точнее, согласно уточнению Шопенгауэра,[256] вещь в себе остается для нас непознаваемой, но ее первейшим обнаружением или явлением в опыте оказывается именно воля; то есть нами вещь в себе наиболее адекватно познается как воля; она как воля раскрывает себя в феноменах, образуя их сокровеннейшую природу, и познается в акте самосознания.
Ничего подобного мы не находим ни в индуизме, ни в буддизме, ни в джайнизме, равно как нет этого и в китайских учениях. Это хорошо понимал и сам Шопенгауэр, писавший, что его философию нельзя понять, исходя из восточных учений, тогда как они могут быть правильно поняты только из нее. Другими словами, система Шопенгауэра – ключ к подлинному пониманию сути религиозно-философских систем Востока. Но не лучше ли, чем превращать в волю недвойственный Брахман упанишад или Дао-Путь даосизма, поискать учение, в котором воля действительно занимает место, близкое к ее месту в системе Шопенгауэра. И таким учением оказывается именно каббала.
Так, согласно Г. Шолему,[257] каббалисты Героны рассматривали волю Бога (сокрытого Абсолюта, Эйн Соф) как высшую эманацию, которая проистекает из божественной сущности и одновременно скрывается в божественных силах; воля образует наивысший уровень, достижимый для человеческой мысли.
При этом подчеркивается единство действия, существующее между Эйн Соф и волей. Последняя названа «беспредельной Волей» (га-рацон ад Эйн Соф), «беспредельно возвышенным» (га-ром ад Эйн Соф) или «тем, чего мысль не может когда-либо достигнуть». В некоторых сочинениях Азриэля Эйн Соф не упоминается вовсе, а Первоволя описана в выражениях, обычно применяемых к Абсолюту. Ряд авторов (в том числе и автор «Зогара») склоняются к признанию воли совечной Абсолюту и пребывающей до процесса эманации сефирот, который начинается с Мудрости (Хохма). В таком случае сефирот могут рассматриваться в качестве уровней объективации воли (при этом познание оказывается вторичным по отношению к ней), что вполне аналогично подходу Шопенгауэра. Другие каббалисты (например, Исаак ибн Латиф) рассматривают волю как своего рода оболочку или одеяние Бога. А современный каббалист Михаэль Лайтман (сторонник лурианской каббалы рабби Иуды Льва Галеви Ашлага, 1885–1955 гг.) говорит даже, что «мы и все, что нас окружает, включая духовные миры, все, что кроме Творца – лишь разные величины желания получить наслаждение».[258]
Таким образом, именно каббала содержит самую удивительную параллель к философии Шопенгауэра и именно каббала (а не упанишады и буддизм) могла бы послужить источником его учения, но, по всей видимости, Шопенгауэр не имел о каббале ни малейшего представления.
Хорошо известно, что источником морали Шопенгауэр считал сострадание, онтологическим основанием которого является единство всего сущего: реально (как вещь в себе) существует только одна сущность, обнаруживающаяся непосредственно в самосознании как воля Эта единая и единственная реальность иллюзорно являет себя через посредство времени, пространства и причинности в виде множества существ и вещей. Сострадание – следствие глубинного чувства тождества «я» и другого по принципу, известному по санскритскому речению из упанишад «тат твам аси» («то ты еси»). Но и этот принцип Шопенгауэр мог бы обнаружить в каббалистических источниках. Вот что пишет о цфатской[259] каббале Г. Шолем:
«Эта взаимосвязь всех людей, осуществляемая посредством души Адама, уже была объектом мистических спекуляций Кордоверо. По его словам: «В каждом имеется нечто от ближнего его. Поэтому всякий человек, который грешит, наносит вред не только самому себе, но и той части своего существа, которая принадлежит другому».[260] И это, по мнению Кордоверо, и есть подлинная причина, по которой Тора (Лев. 19:18) предписывает: «Люби ближнего твоего, как самого себя», – ибо этот ближний на самом деле – ты сам». (Шолем Г. Указ. соч. Т. 2. С. 102.)
Конечно, предложенный в данной главе обзор параллелей, существующих между каббалой и восточными учениями, является неполным и весьма беглым. Мы стремились лишь наметить перспективу исследований в данной области и представить на суд читателя своего рода эскиз будущей специальной развернутой работы, посвященной этому вопросу. За пределами нашего внимания осталась, например, огромная тема сопоставления каббалистической практики гематрий и темуры с традиционной китайской нумерологей и комбинаторикой. Возможно также и сопоставление отдельных категорий и терминов, их семантических полей (например, решимот – «списки», «записи», «отпечатки», «следы», «энграммы» лурианской каббалы и васана – «энергия привычки», «истечения» виджнянавадинской философии буддизма). Вместе с тем совершенно ясно, что изучение типологической общности между каббалой и учениями Востока весьма перспективно для установления как универсалий религиозно-мистического опыта, так и структурного единства и содержательной близости мистико-эзотерических учений при различии используемых ими средств описания и выражения своего опыта и своих идей. И если нам удалось вызвать интерес научной общественности к поднятой теме, то мы можем считать задачу этой работы выполненной.
В заключение приведем одно высказывание М. Бубера, чрезвычайно ценное в связи с рассмотренной нами проблематикой:
«Ибо обретение цельности души – это древнейшее внутреннее переживание еврея, внутреннее переживание, которое со всей силой азиатской гениальности проявилось в личной жизни великих евреев, в которых жил глубинный иудаизм. Великая Азия преобладала в них над Западом, Азия безграничности и святой цельности, Азия Лао-цзы и Будды, которая в то же время есть Азия Моисея и Исайи, Иоанна, Иисуса и Павла». (Бубер М. Беседы о еврействе // Бубер М. Избранные произведения. Иерушалаим, 1979. С. 48–49. Из последних публикаций о каббале, в том числе и компаративистского характера, см.: Hoffman Ё. The Way of Splendor: Jewish Mysticism and Modern Psychology. Boulder, 1981; Zen and Hasidism / Ed. by Heifetz H. Wheaton (Illinois), 1978; Kamenelz R. The Jew in the Lotus. S.-Francisco, 1994; Schahter-Shatomi Z. Kabbalah and Transpersonal Psychiatry // Textbook of Transpereonal Psychiatry and Psychology. N. Y., 1996. P. 123–133.)
Глава 3. ДОГМАТИКА И МИСТИКА В ХРИСТИАНСТВЕ
Трансперсональный опыт в раннем христианстве
Генезис христианства исключительно сложен, и эта сложность в полной мере отразилась в структуре христианского вероучения, литургической практики и церковной организации. Христианство в процессе своего становления вобрало в себя основы иудейского мировосприятия (теизм, креационизм, историзм), религиозные представления, связанные с мистериальными культами эллинистического Востока, и элементы греко-римской философии (стоицизм, платонизм); последнее обусловило тот дуализм Афин и Иерусалима, о котором мы говорили во введении в связи с проблемой «религия – наука». Можно указать и на другие мировоззренческие компоненты (например, гностический и манихейский аскетизм), также сыгравшие немаловажную роль в формировании этой второй по времени возникновения (после буддизма) мировой религии. Таким образом, христианство оказалось как бы плавильным горном, переплавлявшим в себе все культурное и религиозно-философское наследие средиземноморского мира, создавая новый синтез, отнюдь не сводимый ни к одному из своих компонентов, ни к Афинам, ни к Иерусалиму в чистом виде. Именно этот синтез сохранил основы культурного наследия античности в новую эпоху, посеяв семена, из которых взошла новая европейская романо-германская и византийско-славянская цивилизация.
Тем не менее необходимо иметь в виду, что сложность и гетерогенность христианства как развитой религии отнюдь не означает аналогичной синкретичности, гетерогенности и полиморфности учения основателя этой религии – Иисуса (от евр. Иешуа или Иегошуа) Христа (Христос – перевод на греч. евр. маишах – «спаситель», «помазанник»). О теологии Нового Завета написано так безмерно много (в том числе и в последнее время, особенно столпами протестантского модернизма, из которых наиболее знаменит Бультман), что говорить о ней вновь, да еще и по необходимости кратко, нет никакой возможности. Выскажем только нашу убежденность в том, что теология Нового Завета не только отнюдь не тождественна теологии Никео-константинопольского символа веры и отцов церкви, но и вообще имеет с ней весьма мало общего.
Собственно, никакой теологии как системы богословских взглядов и концепций мы в Новом Завете и не находим, ибо его интенция совсем иная; во всяком случае, цель евангелий – отнюдь не конструирование системы догматов и теологических спекуляций. Учение Нового Завета (прежде всего евангелий) вполне однородно, последовательно и имеет совершенно традиционно иудейский характер, будучи прочно укорененным в ветхозаветных текстах и религиозных сочинениях периода второго храма. Поэтому любой образованный в религиозном отношении еврей прекрасно видит иудейский подтекст и контекст наставлений Иисуса и немало удивляется их пониманию в церковной традиции. Достаточно обратиться к некоторым сочинениям времен правления Хасмонейской династии, чтобы найти в них в готовом виде все элементы учения Иисуса.[261]