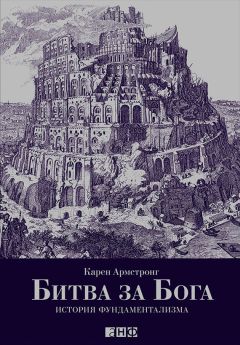Ознакомительная версия.
Однако реформа продолжала буксовать. Совет стражей стоял на своем, и Хомейни попробовал подойти с другой стороны, духовной. В марте 1981 г. он высказал группе клириков: «Не перестроив сперва себя, человек не должен пытаться переделывать других». Духовенство, само пока не излечившееся от эгоизма и погрязшее в пустой борьбе за власть, не сможет вернуть народ к исламу. Каждый улем должен преодолеть собственный эгоцентризм, мешающий исламскому развитию страны. Решение предлагалось следующее – «достигнуть стадии, на которой… забываешь о себе». «Когда исчезает то „Я“, с которым нужно бороться, – подытожил Хомейни, – пропадают и споры, и ссоры»[835]. Это решение подсказывала Хомейни мистическая практика ирфана; по мере приближения к Господу последователь постепенно освобождается от эгоистичных желаний, пока не обретет способность узревать меняющийся образ Бога. Однако динамика современной политики сильно отличается от духовного созерцания. Улемы Совета стражей не вняли увещеваниям Хомейни. Политика, как правило, привлекает людей с повышенным себялюбием. Современные правительственные институты действуют за счет уравновешивания противоречивых интересов, а не за счет предлагавшегося Хомейни самоотречения. Разрабатывая теорию вилайат-и факих, Хомейни полагал, что улемы в Совете стражей будут отстаивать мистические, сокрытые (батин) ценности незримого, а они, как простые смертные, погрязли в материализме захира.
Чтобы преодолеть тупиковую ситуацию с Советом стражей, энергичный спикер меджлиса ходжат-оль-ислам Хашеми Рафсанджани подговаривал Хомейни воспользоваться своей властью верховного факиха, чтобы провести земельную реформу через парламент. Конституция давала факиху решающий голос по всем исламским вопросам, и он мог отменить решение Совета стражей. Рафсанджани предлагал Хомейни сослаться на исламский принцип «маслахи» («общественного интереса»), позволяющий законоведу выносить «вторичные постановления» по вопросам, не оговоренным напрямую в Коране или Сунне, если того требовало благополучие народа. Но Хомейни не хотел на это идти. Он начинал понимать, что должность верховного факиха может ослабить авторитет институтов, необходимых исламской республике для выживания в современном мире. Он уже стар. Если он станет постоянно вмешиваться и отменять решения правительственных органов, пользуясь личным авторитетом, меджлис и совет утратят доверие и единство, а исламская конституция погибнет вместе с ним. Противостояние меджлиса и совета продолжилось.
Хомейни попытался пристыдить улемов, напомнив об иранских детях, которые ежедневно гибнут в войне с Ираком. Эти юные жертвы в очередной раз доказывают, насколько опасно превращать мистику в политику. С первого же дня войны подростки повалили в мечети, умоляя отправить их на фронт. Многие из них, выросшие в трущобах и на нищих окраинах, прошли огонь и воду во время революции, и прежняя жизнь стала казаться им серой и унылой. Некоторые вступили в Фонд обездоленных или пошли в «Строительный джихад», но с упоением битвы это не шло ни в какое сравнение. Иран был технически плохо подготовлен к войне, зато в стране наблюдался демографический взрыв, и большинство населения составляла молодежь. Фонд обездоленных стал ядром армии из 20 млн молодых людей, жаждавших действия. Правительство издало указ, позволявший записываться добровольцами лицам мужского пола начиная с 12-летнего возраста без согласия родителей. Они становились подопечными имама, и в случае гибели им было гарантировано место в раю. Десятки тысяч подростков в алых налобных повязках (знак мученика) хлынули в зону боевых действий. Одни обезвреживали минные поля, выбегая впереди войска и подрываясь на минах. Другие становились смертниками, бросаясь с гранатами под иракские танки. Специально для них на фронт посылались писари, записывающие их завещания, многие из которых диктовались в форме писем к имаму Хомейни. В них говорилось о свете, которым он озарил их жизнь, и о том, как они счастливы сражаться «рядом с друзьями по пути в рай»[836].
Эти подростки возрождали веру Хомейни в революцию, они следовали примеру имама Хусейна, погибшего, чтобы «засвидетельствовать» первостепенность незримого. Это высшая форма аскетизма, посредством которой мусульманин преодолевает собственное «Я» и достигает единения с Богом. В отличие от старших, эти дети перестали быть «рабами природы», прикованными личными интересами к материальному миру. Они помогали Ирану достичь «состояния, при котором его нельзя будет назвать иначе как райской страной»[837]. Человек, сосредоточенный лишь на материальном и мирском, не дотягивает даже до звания человека. «Смерть не означает небытия, – провозглашал Хомейни. – Это жизнь»[838]. Жертвенность стала важной составляющей иранского бунта против западного рационального прагматизма и неотъемлемой частью большого джихада за душу страны[839]. Однако, несмотря на заявление Хомейни о том, что гибель в бою не означает небытия, в этой жуткой готовности обречь тысячи детей на страшную смерть крылся нигилизм. Он противоречил одинаково важным и для верующих, и для секуляристов основополагающим человеческим ценностям, состоящим в священной неприкосновенности жизни и инстинктивном побуждении защитить детей – ценой собственной жизни, если потребуется. Этот культ жертвоприношения детей был очередным роковым искажением веры, к которым склонны фундаменталисты всех трех монотеистических религий. Возможно, за ним стоял ужас, возникающий при сражении с могущественными врагами, стремящимися тебя уничтожить. Однако он снова доказывает, чем чреват перевод мистического, мифологического императива в прагматичную военную или политическую программу. Мулла Садра, говоря о мистической смерти своего «Я», не подразумевал физическую, добровольную гибель тысяч молодых людей. То, что работает в духовной сфере, может оказаться безнравственным и даже губительным при буквальном воплощении в обыденном мире.
Создание по-настоящему исламского государственного устройства оказывалось весьма затруднительным. В декабре 1987 г. Хомейни, уже немощный и больной, снова занялся вопросом конституции. На этот раз Совет стражей блокировал законы о труде, по утверждению улемов, противоречащие шариату. Хомейни, поддерживающий народный меджлис, а не реакционных элитистов в совете, заявил, что государство вправе менять основополагающие исламские уложения, если того требует благосостояние народа. Как доиндустриальный свод законов шариат требовал радикальной адаптации к нуждам современного мира, и Хомейни это сознавал. Государство, по его словам, может заменить «это фундаментальное исламское устройство на любую социальную, экономическую, трудовую… городскую, сельскохозяйственную или иную систему и может сделать монопольные для государства службы орудием проведения общего и обязательного для всех курса»[840]. Хомейни провозгласил независимость. Государство должно обладать «монополией» в подобных практических вопросах, и ему необходима свобода от связывающих по рукам и ногам законов традиционной религии. Две недели спустя Хомейни пошел еще дальше. Президент Хаменеи сделал из этих заявлений вывод, что верховный факих получает право толковать закон. Хомейни возразил, что не имел в виду ничего подобного. Правительство, повторил он, не упоминая о собственной власти факиха, не просто обладает полномочиями толковать божественный закон, но и само служит проводником этого закона. Оно составляет важную часть божественной власти, которую Бог делегировал Пророку, и имеет «преимущество над всеми прочими божественными порядками», в том числе и над такими «столпами» ислама, как молитва, пост в Рамадан и хадж: «Правительство вправе в одностороннем порядке отменить любое законодательное решение… если это решение противоречит интересам ислама и страны. Оно может блокировать любое дело, будь то светское или религиозное, если оно противоречит интересам ислама»[841]. Веками шииты старались разводить эти две сферы: абсолютный миф религии наполнял прагматичный логос политики смыслом, но слишком сильно от него отличался. Теперь же Хомейни требовал не препятствовать государству в утилитарной погоне за интересами народа и благом ислама.
Кто-то решил, что Хомейни ведет речь о собственном правлении и пытается поставить доктрину «вилайат-и факих» выше «столпов» ислама. Западные наблюдатели обвинили Хомейни в мегаломании. Однако спикер Рафсанджани заметил, что Хомейни и словом не обмолвился о факихе, и, к ужасу самых радикальных сторонников Хомейни, предположил, что под «правительством» тот подразумевал меджлис. В своей выдающейся проповеди от 12 января 1988 г. Рафсанджани дал новую интерпретацию вилайат-и факих. В Коране Господь явил Пророку не все законы, которые потребуются умме. Он передал свою власть Мухаммеду, сделав его своим «наместником», и позволил проявлять собственную инициативу в этих второстепенных вопросах. Теперь имам Хомейни, верховный факих, передает свою власть меджлису, наделяя его полномочиями по собственной инициативе принимать новые законы. Значит ли это, что Иран переходит к демократии западного образца? Ни в коем случае. Право на законотворчество исходит не от народа, а от Бога, который передал свою власть Пророку, имамам, а теперь и имаму Хомейни, и именно они, а не народ, легитимизируют решения меджлиса. «Как вы видите, – утверждал Рафсанджани, – демократия принимает более совершенную форму, чем на Западе», поскольку дается Богом. Это «здравая форма народного правления людьми, посредством людей, с позволения вилайат-и факих»[842]. В очередной раз мы наблюдаем то, что происходило и на Западе: нужды государства эпохи модерна привели Иран к демократической форме правления, однако в данном случае она облекалась в исламскую обертку, которую народ был способен принять и связать с собственными шиитскими традициями.
Ознакомительная версия.