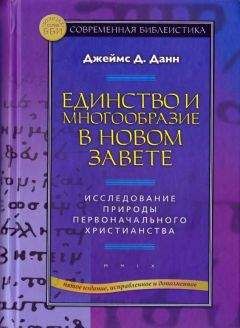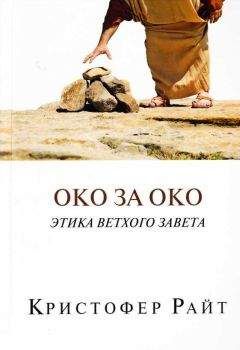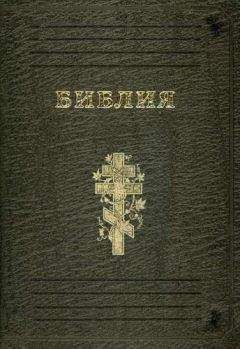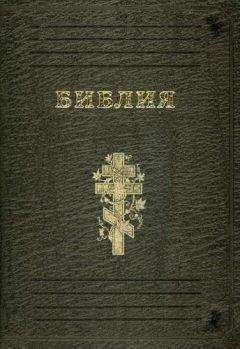Отсюда возникает принципиальный вопрос: существует ли вообще окончательное выражение христианской веры, однозначное по смыслу? Может ли оно существовать? Сводима ли истина к какой‑то окончательной и неизменной формуле/утверждению/образу поведения? Или субъективность нашего восприятия и ограничения нашей жизненной ситуации не позволяют достичь такой окончательности? Не существенно ли, что даже традиционное христианство считает: окончательное откровение истины было сделано в личности Иисуса из Назарета, а не в каком‑то утверждении? (Можно ли человека свести к формуле?)[92] Эта проблема имеет колоссальное значение для христианства и богословия. Будем о ней помнить в последующих главах, а в конце книги вернемся к ней.
(б) Во–вторых, историческая проблема (ей в значительной мере и посвящено данное исследование). А именно: существовала ли вообще какая‑то ортодоксия? — единственная и четко определенная вера, отличавшая христианина от еретика? Традиционный христианский ответ был утвердительным. Согласно классическому представлению об ортодоксии, всегда существовала единая и чистая вера, восходящая к апостолам, причем Церковь сохранила учение Иисуса и апостолов неповрежденным. В борьбе с ересью, начиная с последних десятилетий II в., ортодоксия обычно рисовала такую картину: ересь — испорченная и боковая ветвь, отходящая от ствола истинной веры; сначала возникло чистое ортодоксальное учение, и лишь впоследствии появились волки и лжеучителя, которые смущали паству и искажали веру. Например, Евсевий с помощью цитат из Егезиппа пытается доказать: "безбожное заблуждение" стало проникать в Церковь лишь во II в., когда все апостолы умерли, — ранее же Церковь "пребывала чистой непорочной девой" (Церковная история, III.32.7–8). Аналогичным образом Тертуллиан, один из самых первых и самых ревностных сторонников этого представления об ортодоксии и ереси, писал:
Как могли быть христиане прежде, чем найден был Христос? Как ереси могли существовать прежде истинного учения? На деле, конечно, истина предшествует своему изображению, подобие следует за вещью. Право, совершенно нелепо считать, что ересь существует прежде истинного учения, — хотя бы потому, что само это учение возвестило: ереси будут и нужно их остерегаться
(
Против еретиков, 29).
Тот же автор обличает Маркиона: по его словам, Маркион был "отступником, прежде чем стал еретиком" (Против Маркиона 1.1).
Таково было общепринятое представление об ортодоксии вплоть до XX в. Однако важное исследование Вальтера Бауэра "Ортодоксия и ересь в первоначальном христианстве"[93] показало, что этот подход строится на зыбком историческом основании, а потому должен быть оставлен. Бауэр продемонстрировал, сколь пестрым явлением было христианство II в. Вначале не существовало никакой "чистой" формы христианства, которую можно было бы назвать "ортодоксией". Более того, не было и единого понятия ортодоксии, — лишь разные формы христианства соревновались за верность верующих. По–видимому, в некоторых местах (особенно в Египте и Восточной Сирии) именно то, что более поздние клирики объявили гетеродоксией, было первоначальной формой христианства, доминирующей силой в первые десятилетия укоренения христианства на этих территориях. Понятие ортодоксии стало выкристаллизовываться лишь в борьбе между разными точками зрения, и побеждавшая партия объявляла "ортодоксией" именно себя! Наша нынешняя точка зрения носит искаженный характер, поскольку мы слышим голос лишь одной из партий — Климента, Игнатия, Поликарпа, Иринея и т. д., — а от эбионитов, Маркиона, монтанистов и прочих до нас дошли лишь отголоски и цитаты.
Бауэр занимался в основном II в. Что можно сказать о I в.? Здесь миф о девственной Церкви соединялся с верой в первоначальный период христианства как время уникального (апостольского) вдохновения, причем послеапостольский период мыслился как отпад от первозданной чистоты. Это идеализированное представление о "каноническом" веке первохристианства, когда апостолы высказывались единодушно и авторитетно по всем принципиальным вопросам, подверг резкой критике еще в XIX столетии Фердинанд Христиан Баур (почти тезка Бауэра!). Если католическая ортодоксия постулировала первоначальную чистоту, (фактически) подчиняя Павла Петру; если протестантская ортодоксия делала Павла объединяющим центром первохристианства, Баур высказал гипотезу: между христианством Павла и христианством Петра существовал конфликт (отраженный, в частности, в Послании к Галатам), и этот конфликт сформировал все развитие первохристианства. Пожалуй, Баур попытался втиснуть все течение раннехристианской истории в слишком узкое русло. Однако его теория о том, что внутри этого течения существовало несколько потоков и что воды были достаточно бурными и неспокойными, сохраняет актуальность. С тех пор мы поняли: течение христианства I в. было гораздо шире, чем думал Баур, внутри него было много потоков и встречных потоков, а берега местами размыты. В частности, две важные дисциплины, появившиеся в XX в., — история религии (Religionsgeschichte) и история первохристианских традиций (Traditionsgeschichte) — подтвердили, что антитеза между иудейским христианством (Петра) и эллинистическим христианством (Павла) была упрощенной; во многих случаях мы наблюдаем эллинистическое христианство до Павла, а также сталкиваемся с необходимостью провести грань между палестинским иудеохристианством и эллинистическим иудеохристианством (не превращая, разумеется, их в строгие категории). Иначе говоря, Religionsgeschichte и Traditionsgeschichte показали новозаветникам историческую относительность христианства 7 е., а также фрагментарный характер наших знаний о нем. Отныне невозможно считать христианство I в. четко определяемой сущностью, которую отделить от ее исторического контекста так же легко, как орех от скорлупы. Историческая реальность оказалась гораздо более многогранной, а наши представления о ней — гораздо менее ясными, чем мы думали[94].
Очевидно, что традиционное представление о христианской ортодоксии I в. не могло не оказаться затронутым этими разработками. Это особенно ясно увидели Рудольф Бультман и его ученики. Например, сам Бультман в последней части своего фундаментального "Новозаветного богословия"[95] привлекает внимание к большому многообразию богословских интересов и идей, характерному для первоначального периода, и отмечает, что на всем его протяжении отсутствовали "норма или авторитетный апелляционный суд в вопросах доктрины".
Вначале христианскую конгрегацию отличала от иудеев и язычников вера, а не ортодоксия (правильная доктрина). Последняя, вместе со своим коррелятом, ересью, вырастает из различий, которые развиваются внутри христианских конгрегации[96].
Ученики Бультмана продолжили дискуссию смелыми утверждениями. По мнению Герберта Брауна, "специфически христианский элемент, константа… в Новом Завете" — "самопонимание веры"[97]. Эрнст Кеземан считает четвертое Евангелие не голосом ортодоксии, но выражением "наивного докетизма" — такого понимания Иисуса, которое впоследствии вылилось в ересь докетизма как таковую[98]. Еще смелее он чуть раньше подошел к Третьему посланию Иоанна: автор ("пресвитер") не защитник ортодоксии от еретика Диотрефа, но Диотреф — "ортодоксальный" глава общины, которой адресовано письмо (пресвитер же — "христианский гностик"!). Диотреф действует как "монархический епископ", защищающийся от лжеучителя[99]. А Гельмут Кёстер, распространяя метод Бауэра на анализ христианства I в., пишет:
Здесь мы имеем дело с религиозным движением, которое синкретично по виду и с самого начала отличается ярким многообразием. Мы не можем априорно утверждать, в чем состоит его индивидуальность[100].
Таким образом, все актуальнее становится вопрос: существовала ли единая ортодоксия хотя бы в первохристианстве, в Новом Завете? И вообще, насколько корректно использовать понятия ортодоксии и ереси? Можно ли говорить об "ортодоксии" в контексте христианства I в.? В 1954 г. Г. Э. У. Тернер попытался обосновать этот подход в своих Бамптонских лекциях ("Образец христианской истины")[101]. Он отверг основную идею Бауэра и предложил в противовес такую картину христианства II в.: ортодоксия существовала, но была окружена некой "полутенью", в которой грань между ортодоксией и ересью смазывалась (pp. 81–94). В первоначальный период "ортодоксия была скорее вопросом инстинктивного чувства, чем фиксированных и поддающихся дефиниции доктринальных норм" (pp. 91). До письменного символа веры был ex orandi, "относительно полное и фиксированное экспериментальное осмысление того, что значило быть христианином" (р. 28, курсив мой. — Дж. Д.). Но удовлетворительно ли это? Отдает ли должное такой подход тому огромному спектру многообразия (и полемики) внутри первохристианства, в котором новозаветная наука все более убеждалась со времен Ф. Х. Баура? Противоположную крайность мы находим у Джона Шарло: "Нет ни одной богословской точки зрения… которая бы объединяла всех новозаветных авторов и все уровни традиции в Новом Завете"[102]. Но чем она лучше? Неужели у первохристиан не было вообще ничего общего?