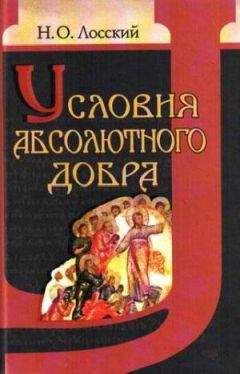39
с объективной стороны. Непосредственное сознание открывает с абсолютной достоверностью, что это неверно: свобода, истина красота, нравственное добро суть не средства, а самоценности. Они могут быть использованы иногда как средства для биологических целей, т. е. для самосохранения организма, но по рангу своему они стоят выше биологических ценностей, и реализация их образует сверхбиологическую сторону жизни человека, более ценную, чем биологическая; поэтому понятно и естественно, что в случае столкновения ценностей человек нередко жертвует своей физиологической жизнью, обрекает себя на телесную смерть ради реализации этих духовных ценностей. Таким образом, с точки зрения философа, развивающего учение о ценностях на основании данных внутреннего опыта, а не предпосылок биологии. Спенсер в своей этике впал в две противоположные ошибки: во–первых, отметку достижения цели, чувство удовольствия, он принял за конечную цель; во–вторых, подлинно высшие цели он низвел на степень средства.
Если духовные деятельности суть только средства для сохранения и развития телесной жизни, то обречение себя на смерть в борьбе за духовные ценности есть бессмыслица или какое‑то странное извращение. И в самом деле. Спенсер приравнивает такие поступки к поведению скряги, начавшего копить деньги для удовлетворения голода и кончившего смертью от голода на сундуке с деньгами; иными словами, в поведении, жертвующем биологическими потребностями ради духовных, он видит, подобно Миллю и многим другим мыслителям, один из случаев превращения средства в цель и не замечает, как эта теория компрометирует всю его систему этики. Во–первых, превращения средства в цель вследствие одного лишь переноса ассоциированных воспоминаний с цели на средства не бывает; во–вторых, если бы ассоциации превращали средства в цели, эти изменения поведения были бы такою нелепостью, что сознание их вело бы не к упрочению их, а к попыткам возвратить первоначальное правильное соотношение средств и целей, т. е. в данном случае «рациональная» этика вызывала бы стремление вернуться к эгоизму. Рас смотрим подробнее эти два положения. Возможно ли, чтобы ассоциации изменяли для субъекта ту ценность какого‑либо предмета, которая внутренне присуща ему согласно его природе? Спенсер приводит следующие примеры: «Известный сорт варенья, постоянно дававшийся нам в детстве для заедания лекарства, может быть сделано, в силу простой ассоциации чувствований, до такой степени противным для нас, что мы не будем в состоянии переносить его во всю последующую жизнь»; и наоборот, «карканье грачей не есть само по себе приятный звук; с музыкальной точки зрения скорее можно было бы утверждать обратное», однако обыкновенно оно вызывает приятные чувствования вследствие ассоциированных с ним воспоминаний о прогулках, каникулах и т. п. Эти примеры не доказывают того, что нужно Спенсеру (Основания психологии. § 519).
40
Стоит только привлечь внимание к этим переживаниям и добиться самоанализа, чтобы получить следующие признания: Я согласен, что вкус этого варенья очень хорош, но мне неприятно есть его»; «конечно, карканье грачей — звук не музыкальный, но слушать его мне приятно». Внимательное наблюдение легко открывает, что в первом случае имеется объективная положительная ценность, но она не входит гармонически в состав моей душевной и телесной жизни; во втором случае имеется объективная отрицательная ценность, но другие положительные стороны предмета перевешивают ее. Ассоциации могут повлиять на поведение, однако они не изменяют собственную ценность предмета и, следовательно, не могут превратить неприятный или неинтересный предмет в привлекательный сам по себе. Из этого следует, что один лишь механизм ассоциаций недостаточен для того, чтобы превратить средства в цель. В тех случаях, когда прежнее средство становится действительно господствующей целью, отодвигая первоначальную цель на второе место, это изменение поведения обусловлено не ассоциациями, а другим более мощным и непосредственно влиятельным фактором: практическое использование средства знакомит обстоятельно с содержанием его и открывают глаза на его собственную ценность, более высокую, чем та цель, ради достижения которой оно первоначально применялось; тогда, естественно, оно превращается из средства в цель. Так, геометрические истины, может быть, привлекали к себе внимание первоначально лишь как средство для решения практических задач ремесла, земледелия и т. п. Но когда система этих знаний стала развертываться все шире, гармоническое единство математических теорем предстало окрепшему уму человека как полное смысла увлекательное царство истин, как «язык богов», более ценный сам по себе, чем любые практические цели, для решения которых он может быть использован. Понятно, что математический гений, обладающий умом, способным воспринимать ценность этого царства истин, увлекается открытием их, как главной целью своей жизни, не заботясь о том, послужат ли его открытия средством для решения каких‑нибудь житейских задач: духовная ценность истины и открытие ее выше житейских ценностей. В современном культурном обществе есть немало людей, охотно рискующих своею жизнью ради открытия новых истин о мире. Такое превращение средства в цель есть не извращение, а нормальное развитие человечности, характерная черта которой есть признание того, что духовные ценности по рангу своему стоят выше ценностей витальных (под словами «витальная ценность» здесь разумеются все психофизиологические ценности телесной жизни). Из этого, конечно, не следует, будто можно совсем пренебречь витальными ценностями и отдаться чисто духовной жизни: во–первых, витальные ценности имеют значение сами по себе, хотя по рангу своему они стоят ниже духовных ценностей; во–вторых, в условиях земной жизни они суть необходимое условие (средство) для сохранения и развития сил, направленных на духовную
41
деятельность. Более подробное рассмотрение этого сложного взаимоотношения человеческих деятельностей и интересов будет дано в следующих главах.
Подобно любви к знанию, также и пылкая любовь к свободе, красоте и т. п. объясняется внутренней, самостоятельной ценностью этих благ, а вовсе не нарастающими вокруг них ассоциациями. Мало того, даже и такое превращение средства в цель, как разрастание любви к собственности, доходящее до крайней скупости, должно быть объяснено иначе, чем ассоциационной психологией Спенсера, исходящего из удовлетворения телесных потребностей. Любовь к собственности нередко представляет собой один из видов властолюбия. «Скупой рыцарь» в поэме Пушкина, любуясь своими сокровищами в подвале, говорит:
Мне все послушно, я же — ничему;
Я выше всех желаний; я спокоен;
Я знаю мощь мою: с меня довольно
Сего сознанья…
Преодолимость всех препятствий, исполнимость всякого замысла не в одних лишь мелочах повседневной жизни, а и в осуществлении планов могучей воли и широкого ума есть ценность, высоко поднимающаяся над областью биологических потребностей и легко дающая повод к сатанинским соблазнам. Неудивительно, что Ницше и многие другие философы готовы возвести ее в ранг конечной цели поведения высшего типа.
Понять, каким образом перечисленные духовные страсти, а также многие другие духовные ценности могут стоять выше биологических потребностей, можно не иначе как на основе миропонимания более сложного, чем натуралистический биологизм, и свободного от сознательного или безотчетного следования материалистической предпосылке, согласно которой духовное бытие есть только надстройка над телесными процессами. В следующей главе сущность такого миропонимания будет намечена, а теперь покажем сомнительность теории Спенсера, даже если и сделать ему ряд уступок. Спенсер говорит, что «рациональная этика» задается целью «вывести из законов жизни и из условий существования, какие роды поведения необходимо стремятся к произведению счастья и какие столь же необходимо стремятся породить несчастье. Когда это будет сделано, то ее выводы должны будут получить значение законов поведения, после чего каждый должен будет сообразоваться с этими признанными законами, не пускаясь в прямую оценку имеющего произойти в каждом единичном случае счастья или бедствия» (§21).
По мнению Спенсера, впервые он в своей теории поведения вполне последовательно использует закон причинности, выводя правила поведения из знания причин, управляющих жизненным процессом. Заметим мимоходом, что в том самом месте своей этики, где он упрекает других философов в недостаточном внимании к закону причинности, он сам обнаруживает, пожалуй,
42