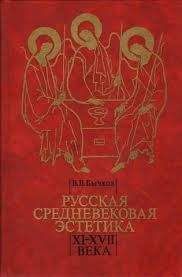Относительно прекрасного материального мира и человека, на что уже указывалось, византийцы этого периода практически полностью разделяли взгляды своих предшественников-апологетов, т. е. им также были свойственны постоянные колебания от принятия земной красоты к отказу от нее и обратно, доходящие на уровне культуры в целом до своеобразной антиномии красоты — её одновременного восхваления и порицания, принятия и неприятия.
В византийской культуре продолжает сохраняться чисто античное эстетическое отношение к пейзажу (прекрасному виду). Так, в трактате Юлиана Аскалонита (VI в.) среди законов и правил градостроительства сохранено древнее право об отводе строительства новых сооружений, если они будут загораживать красивый вид жителям уже существующих зданий. «Если представляется вид на гавань, залив, — пишет Юлиан, — прямо со стороны поселения или города, или же на стоянку кораблей… то такой вид на море ни в коем случае не должен быть нарушен, поскольку обозревающим доставляется этим много душевных наслаждений»[38]. Чтобы новое здание не закрывало красивый вид на горы или на море для жителей других домов, «его необходимо строить на расстоянии не меньше ста шагов от уже существующих зданий»[39]. Религиозные мыслители продолжают усматривать в природной красоте явный признак божественного созидания. Как при созерцании красивого и величественного сооружения или искусной картины на ум приходит мысль о художнике, писал Феодорит Кирский (ум. ок. 466 г.), так и красота природы возбуждает мысль о ее создателе (In psal. XVIII 2)[40]. Византийские мыслители видели «в теле человеческом много красоты, стройности, взаимной соразмерности частей» (Theodor. Cyr. Quaest. in Gen. 19), но телесная красота не вызывала у них таких восторгов, как у Лактанция. Для Макария Египетского тело — «прекрасный хитон» души (Homil. spirit. IV 3), о котором последняя заботится лишь как о своей одежде. И не телесной красотой украшается человек, но красотой нравственной, душевной (Theodor. Cyr. Quaest. in Gen. 74). Многим женщинам, по мнению Феодорита, красота служит для улавливания людей «в сети греха» (Quaest. in Num. 44).
Нил Анкирский, осуждая распространение моды на роскошные одежды и предметы домашнего обихода, подчеркивал, что внешняя красота обманчива, она часто скрывает сущность вещи (явления), далеко не всегда прекрасную (De monach. praest. 1). Человек должен заботиться прежде всего о красоте своей души, т. е. о нравственных помыслах и делах (Perist. XII 13). Одежда же должна быть простой, удобной, соответствующей фигуре. Если хитон «соразмерен телу», то он и удобен, и красив. Одежда же «не по плечу» и выглядит на человеке безобразно, и мешает во всякой работе (De monastic. 68).
Наряду с понятиями красоты и прекрасного ранневизантийская эстетика выдвинула еще одно, постоянно перекликающееся с ними, но имеющее э целом самостоятельное значение — понятие света. Здесь византийцы опирались на древнееврейскую, филоновскую, гностическую, неоплатоническую и манихейскую традиции[41]. Разрабатывая столь обширное наследие, они полагали свет важнейшей категорией своей гносеологии, мистики, эстетики как в теоретическом, так и в практическом аспектах, категорией многозначной и весьма емкой. Афанасий Александрийский, опираясь на библейские тексты, полагал, что «свет есть Бог, а подобно свет есть и Сын; потому что он той же сущности истинного света». Люди, стремящиеся к единению с божеством, приобщаются к этой стихии вечного света: «И все те, кто носит в себе Духа Божия, светоносны, а светоносные облечены во Христа; и облекшиеся во Христа облекаются в Отца» (De incarn. Dei Verbi 15). Только в стихии божественного света возможно единение (срастворение) трансцендентного и имманентного начал. Григорий Назианзин считал свет, осиявший Христа на Фаворской горе, одной из видимых форм божества (Orat. XL 6). Василий Великий полагал, что поднявшись к высотам созерцания, следует представлять себе в мыслях природу божества в качестве «неприступного света» (Homil. de fide 1). Установив тесную связь между Богом и светом, византийцы констатировали подобное же отношение между светом и красотой. Тот же Василий Великий утверждал, что красота есть свет, по сравнению с которым свет солнца — тьма (Com. in is. V 175).
Высший духовный свет представлялся византийцам L. той полнотой духовности, которая являет собой абсолютное единство всего позитивного в его идеальной сущности, т. е. единство высшей истины, высшего блата и высшей красоты. Только приобщившись к этому свету человек достигает состояния истинного блаженства. Душа его вся становится оком, созерцающим этот свет, растворяющимся в его красоте и славе. Как писал Макарий Египетский, «душа удостоенная Духом, уготовившим её в престол и обитель себе, к приобщению света Его, и осиянная красотою неизреченной славы Его, делается вся светом, вся лицом, вся оком…» (Homil. spirit. 12). Достижение подобного состояния ' стало со времен Макария идеалом подвижнической жизни для многих христиан.
Наиболее полную теорию света в его связи с божеством, красотой и прекрасным, мы находим у автора «Ареопагитик»[42]. В дальнейшем эта теория приобрела необычайную популярность и в самой Византии, и в средневековой Западной Европе, и в Древней Руси, она оказала сильное влияние на художественную практику всего Средневековья.
Свет у Псевдо-Дионисия онтологически-гносеологическая категория. Прежде всего, он связывает его с благом, которое является жизнедательным свойством божества (DN IV 2). Свет, по его мнению, «происходит от блага и является образом благости» (DN IV, 4); это касается как видимого, чувственно-воспринимаемого света, так и «света духовного». " Последний, по Псевдо-Дионисию, выполняет гносеологическую функцию. Благо сообщает сияние этого света всем разумным существам в соответствующей их воспринимающим способностям мере, а затем увеличивает его, изгоняя из душ незнание и заблуждение (DN IV 5). Этот свет превышает все разумные существа, находящиеся над миром, является «первосветом» и «сверхсветом», он объединяет все духовные и разумные силы друг с другом и с собой, совершенствует их и «обращает к истинному бытию», «отвращает их от многих предрассудков и от пёстрых образов или, лучше сказать, фантасий, сводит к единой и чистой истине и единовидному знанию» (DN IV 6).
Вся информация в структуре небесной иерархии и от небесного чина к земному передается в форме духовного света, который иногда принимает образ видимого сияния.
Световая информация — фотодосия (буквально: светодаяние) — как важнейший посредник между трансцендентным и имманентным уровнями бытия описывается Псевдо-Дионисием с помощью антиномии, чем подчеркивается её особая значимость в его системе. Фотодосия «никогда не покидает свойственного ей внутреннего единства и, благоподобно раздробляясь и предводительствуя нас к горнему и объединяющему с премирными умами соединению, невидимо остается внутри самой себя, неизменно пребывая в неподвижном тождестве и истинно стремящихся к ней возвышает в соответствии с их достоинствами и приводит к единству по примеру своей простоты и единства» (СН I 2).
На рубеже небесной и земной иерархий «луч фотодосии» таинственно скрывается «под разнообразными священными завесами» (СН I 2) типа различных, чувственно воспринимаемых образов, изображений, символов, организованных в соответствии с возможностями нашего восприятия Таким образом, духовный свет, непосредственно недоступный человеческому восприятию, составляет главное содержание материальных образов, символов и т. п. феноменов, созданных специально для его передачи, в том числе и образов словесного и изобразительного искусства. Свет этот воспринимается, естественно, не физическим зрением, но «глазами ума», «мысленным взором».
Как мы видим, свет выполняет у Псевдо-Дионисия во многом ту же функцию, что и прекрасное. Псевдо-Дионисий говорит, что «красота сияет» (ΕΗΎΙΙ 3,11) и «сообщает свой свет (!) каждому по его достоинству» {СН III 1). Осияние светом приводит к «украшению неукрашенного» и к «приданию вида (формы) не имеющему его» (ЕН II 3,8), то есть безобразное превращает в прекрасное. Отсюда и отличие света, как эстетического феномена, от прекрасного в теории Псевдо-Дионисия Ареопагита. Свет — более общая и более духовная категория, чем прекрасное, он воспринимается «духовным зрением», и потому доступен восприятию и физически слепого человека. Прекрасное же материального мира воздействует на нас, прежде всего, через физическое зрение, поэтому прекрасное поддается, как мы видели, некоторому описанию, свет же принципиально не описуем. Псевдо-Дионисий его только обозначает.
Эта концепция света утвердилась в византийской эстетике практически до конца её истории.