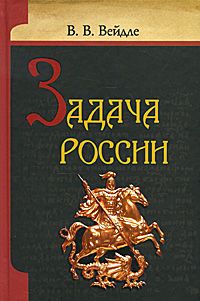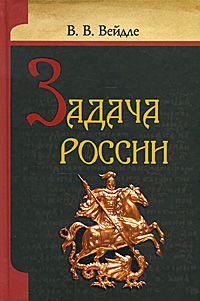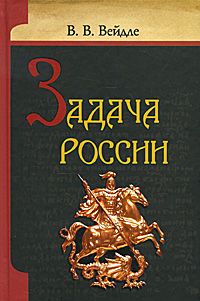Третья Россия будет сильней и первой, и второй. Революция принесла ей три дара: сознание единства всей огромной страны, участие всего населения в ее исторической жизни, правящий слой, близкий к народу; внутренне не отделенный от него; ни одним из этих даров Россия еще никогда не обладала. Нет сомнения, что именно теперь она на пути к тому, чтобы впервые за почти тысячелетнюю свою историю стать нацией, включающей в себя весь народ. Те, кому этого довольно, т.е. кого удовлетворяет внешняя сила и материальное преуспеяние, должны эту третью Россию счесть своей; так они, конечно, и сделают — это вопрос времени и устранения внешних препятствий. Что же касается других, то им следует знать, что хотя революция и принесла России эти неоценимые дары, она кое-что у нее и отняла. Искоренение творческой свободы даром пройти не могло и не прошло. Философия, свободное знание (кроме наук известного направления или в которых не может быть никакого направления) запрещены. В литературе жалкие перепевы «гуманных» мотивов девятнадцатого века и отдельные проблески живого дара или живой мысли тонут в стандартном хламе, вываренном по казенному образцу. Живопись вернулась к Верещагину, скульптура — к Антокольскому; музыка и архитектура подвергаются окрикам людей, ничего не смыслящих ни в той, ни в другой. Вертикальная культура русского образованного общества уничтожена, но уничтожается и горизонтальная культура народа в ее религиозной и бытовой основе. Всеобщая грамотность вполне совместима со всеобщим варварством, а чтение Пушкина — с непониманием азбуки его искусства. Когда культурная преемственность так порвана, как в России, таким повальным истреблением или изгнанием ее носителей, — ее восстановление будет во всяком случае очень трудным. Оно станет невозможным при дальнейшем воспитании молодежи в духе партийной дисциплины и технического идолопоклонства. Одно из двух — или что-то такое случится с Россией, что ее воссоединение с прошлым в последнюю минуту все-таки произойдет, или и в самом деле она перестанет быть Россией. У современной Греции не много общего с Грецией Платона; у будущей России может оказаться еще меньше общего с Россией Пушкина. Имя останется, быть может, и официально будет ей возвращено — но по праву оно принадлежит чему-то иному, не территории, не стольким-то миллионам людей, а всему тому, что ею было создано, всему, чем она жила. Что бы ее ни ждало впереди – мы знаем, что это было.
Иностранец этих слов в кавычки не поставит и рассуждать на обозначенную ими тему будет непринужденнее чем мы. Так и нам говорить о национальных чертах немцев, французов, англичан легче, чем о своих, а о собственной душе и упоминать неловко; однако за неимением более удобного выражения можно воспользоваться и этим, самой же темы все равно не избежать. Все мы в наших мыслях о себе и о своем народе исходим из некоторого общего представления о том, что приходится называть слишком расплывчато его душой или слишком узко — его характером. Почему же не попытаться представления эти проверить, хотя бы частично, и хоть что-нибудь разглядеть в обманчивой, но влекущей глубине?
Мнением иностранцев при этом отнюдь не следует пренебрегать. Конечно, русский человек изнутри знает кое-что о себе и о России, что другому узнать трудно; но сколько-нибудь ясно высказать то, что подсказывается этим смутным знанием, тоже ведь очень нелегко. Чужие ошибки в этой области ничего не стоит указать, но как трудно выразить в словах нашу собственную, чувствуемую, однако, правду. Тут-то и помогают суждения иностранцев – наблюдения со стороны: благодаря им становится легче разобраться в полувнятном нашем самосозерцании. Неоценимо полезны с этой точки зрения бывают не только писания, в общем дружественные России, как известная работа покойного французского ученого Жюля Легра (несвободная, однако, от некоторых предубеждений), но и книги наблюдателей, настроенных враждебно, если только они талантливы и умны, как маркиз де Кюстин или особенно как Виктор Ген, балтийский немец, автор замеательных книг о Гете и об Италии, прослуживший полжизни в петербургской Публичной библиотеке, страстно ненавидевший все русское, включая музыку и литературу, и все же оставивший записи (изданные посмертно), которым трудно найти что-либо равное по зоркости и остроте [3].
Случай Гена — крайний: прозрение, внушенное злобой, ясновидение вопреки несправедливости; общее у него с другими только то, что и он «со стороны». Именно так, все равно что чужими глазами, надо и нам посмотреть на себя, чтобы себя понять, и, пожалуй, сейчас, когда мы отделены от России чем-то большим еще, нежели версты или годы, нам легче стало видеть многие из тех черт, что составляют ее единственность. Конечно, глядя на нее, думая о ней, мы не можем быть только стороной — мы также и она сама; только раздвоясь, угадаем мы даже самую ничтожную ее черту; но раздвоение это как раз и стало доступнее, чем прежде. Впрочем, пусть оно трудно и сейчас… О чем же думать в эмиграции, если не о России? Как не возвращаться к мысли о ней тем чаще, чем дальше мы, кажется, отходим от нее, проникаясь чужеземным опытом?
IВ Эрмитаже когда-то я всегда останавливался перед картиной Иорданса «Семейный портрет», напоминавшей мне почему-то Россию Петра — или Европу, как ее должен был видеть русскими глазами Петр, — хотя написана она на полвека раньше и ничем не связана с петровским временем. Позднее я понял, что ошибался: в картине есть что-то не от петровской России, а от России вообще. С той ее связывают лишь случайные ассоциации, с этой — одна черта, только одна, но без которой не представляешь себе образа России. Кажется, с этой черты и надо начинать, когда думаешь о ней.
В эрмитажном портрете, как и во всей живописи Иорданса, есть особое и необычайно острое чувство семьи, взаимной близости, связанности ее членов, нераздельности человеческих особей в лоне вскормившего их рода. Людям в его картинах тесно и тепло; они заполняют весь холст; они живут вместе, сообща, одною жизнью, одной душою; один начинается там, где кончается другой, один заканчивает, доживает в собственном бытии телесно-душевную целостность другого. Если у него в собственном смысле слова изображена семья, то дети и в самом деле соединяют в себе отца и мать, братья и сестры — разветвления одного ствола, и какой-нибудь старый дед корнями уходит в глубь родовой жизни. Вот в этом именно чувстве семейной связанности, домашнего тепла и тесноты есть что-то русское, сохранившееся в русском быту, хотя, конечно, не повсюду одинаково, и хотя от него, как от многих других характерно русских черт, может ничего не остаться в будущем. Чувство это с огромной силой отражено русской литературой, и сильней всего Толстым, который, быть может, именно в этом отношении больше, чем во всех других — самый русский из русских писателей. Воплотилась эта черта не только в его творчестве, но и в жизни, что особенно ясно видно из воспоминаний Александры Львовны, где Толстой, да и Софья Андреевна рядом с ним, неизменно присутствуют, зримо или незримо, как священные пращуры, как домашние боги в мире простых смертных — детей, домочадцев и гостей. Подрастая, женясь, выходя замуж, дети все же остаются нераздельными с семьей, если не в реальном быту, то в душе, в памяти или верней, в крови: их радость и горе, их различные судьбы, даже их любови разлучают их, но не разъединяют. Множество эпизодов и подробностей, рассказанных Александрой Львовной, устанавливают необычайно крепкую связь Толстого с женой и детьми, сказывающуюся в его остром (все равно — сочувствующем или враждебном) переживании любовных увлечений дочерей, в его вчувствовании в семейную жизнь сыновей, в собственной, не внешней только, но и внутренней опутанности тенетами семейных отношений. Можно думать, что и предсмертный его уход был не только результатом давно уже назревавшего решения покинуть обстановку, обрекавшую его вести не ту жизнь, какая вытекала из его учения, но и чем-то большим: попыткой бежать от себя, того семейственного начала в себе самом, что всегда существовало и глухо боролось в его душе с чисто индивидуальным, не знающим ни чад, ни домочадцев, усмотрением его разума и совести.
В книгах Толстого живет такое чувство семьи, какого не знала европейская литература со времен патриархальных и которое в эти патриархальные времена не могло быть выражено так, как его выразил Толстой. «Война и мир» — повествование о семьях больше, чем о людях, и «Анна Каренина» не случайно начинается знаменитой фразой о счастье и несчастье семейств, а не людей. Нигде не показана так, как у Толстого, та совместность душ, что внутренне объединяет даже и очень отличных друг от друга по умственным способностям, характеру, таланту членов одной семьи. Единство это стихийно, доразумно; в изумительной сцене предложения Левина на другой день после счастливого объяснения его с Кити старые князь и княгиня не просто сочувствуют дочери, не радуются ее счастью, а участвуют в нем в самом буквальном смысле слова: дочь не до конца от них отделена; в ее любви, в ее будущем материнстве они с ней, ее замужество — событие не личное, а родовое. Стоит сравнить эту сцену с той, что происходит у Анны с Вронским после ее «падения», чтобы понять насколько для Толстого не то, что истинна, но и художественно изобразима лишь та любовь, что неразрывна с материнством и семьей. Отсюда и различие всего отношения его к любви Анны и Вронского сравнительно с любовью Левина и Кити, различие, внушенное в конечном счете (как и весь замысел романа) не отвлеченно игральным принципом, а ощущением жизни, более непосредственным, чем всякая мораль. Любовь признается Толстым только родовая. Иную он отвергает как человек; и даже как художник, способен изобразить ее, только подчеркнув ее разрушительную силу (как в любви Анатоля и Наташи), обнажив ее устремленность в небытие. Ни в чем так не проявилась глубина толстовского чувства семьи, как в том, что сама любовь окрашивается у него семейно и знает только одну эту родовую «сублимацию». Чувство это принадлежит, однако, не ему одному, а в некоторой мере всей России, и им самим переживается именно таю как самоочевидное и всеобщее. Он его выразил всего сильней, но его легко найти как бы в предварительном очерке у Пушкина, потом у Аксакова, у Тургенева, даже у Достоевского (хотя ему лично оно скорее чуждо), и характерно, что розановское обожествление пола имеет в виду первобытную детородную стихию и этим противополагается, например, проповеди Лауренса, прославлявшего, так сказать, искусство для искусства, т. е. половую жизнь ради нее самой.