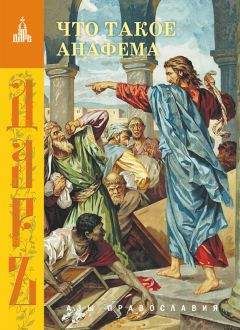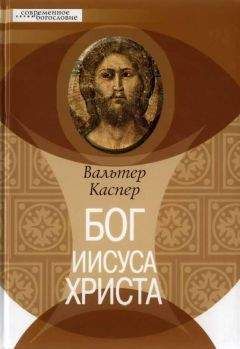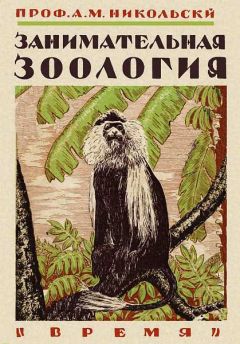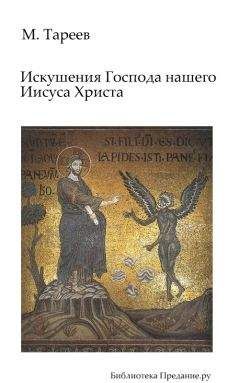Ознакомительная версия.
Но несостоятельность мысли ничего не значит для энтузиаста. Этой обширной и все возрастающей дружине энтузиастов свойственны всякие противоречия верований, свойственно даже верить в сознательную для них самих ложь. Однако эти люди нередко орудуют общественным мнением: они создают репутации, одних покрывают позором, других венчают славою; они накопляют массу горючего материала, от которого может загореться и серьезная часть общества.
Делу Толстого эти люди нанесли большой вред, потому что мнимого, лже-Толстого поставили они каким-то идолом в музей славы, а настоящего, подлинного Толстого укрыли, поставив в тень.
Эта двойственность – тяжкое испытание и для самого Толстого, и для учеников его. Лже-Толстой написал большую книгу в доказательство того, что он – тот же, что и настоящий Толстой. В этой книге стремится он возвести противоречие бытия своего в религиозный догмат, который можно назвать параллелограммом нравственных сил. Ученики его выставляют этот догмат как основание для суждений о Толстом в оправдание очевидных противоречий между словами его и делами.
Лже-Толстой пишет памфлеты в доказательство того, что человек должен отрешиться от всякой собственности, не знать жены и детей, и в то же время настоящий Толстой живет со своим семейством во всех удобствах жизни в поместье Тульской губернии.
И вот чем объясняет себя: «Он желал (говорит один из его хвалителей – м-р Эльметс Мод) действовать в полном согласии со своим учением, но не мог этого исполнить. Не мог, например, отрешиться от своей собственности, не раздражая жены и детей своих, – пожалуй, в таком случае они обратились бы ко властям с просьбой воздержать его. Это очень смущало Толстого; но он почувствовал, что, нанося вред, не может сделать добра. Никакое решительное действие (например, раздать все бедным) не могло бы служить ему оправданием, ибо возбудило бы горькое чувство гнева в сердцах самых близких людей. Итак, пришлось ему передать всю остальную собственность жене и семейству и продолжать жить по-прежнему в хорошем доме, с прислугой, с кротостью вынося упреки в «несостоятельности», и удовольствоваться тем, что в дополнение к литературному труду занимается ручною работой и живет по возможности просто и воздержно».
Трудно, стало быть, оказывается, «сделать добро, не причиняя вреда, не производя горького гнева в сердцах близких людей». Это «маленькое» затруднение естественно является, когда человек, особливо еще женатый, вздумает приводить в исполнение систему жизни, основанную на нищете и безбрачии. И вот толстовцы обыкновенно раздражаются, когда слышат упреки учителю их в непоследовательности: в этом раздражении, несомненно, есть личное чувство, потому что все они покланялись системе, но не исполняют ее, – едва найдется один такой верный в тысячах поклонников Толстого, рассеянных по всему свету. И эта черта особенно характерна в религии воинствующей, которая вопит на весь свет, что все прочие религии суть не что иное, как ложь, изобретаемая лишь для оправдания развратной жизни их последователей.
Но оборотень Толстой опирается на авторитет Иисуса Христа, чтоб оправдать свое учение, чтобы подкрепить авторитетом недостаток разумных оснований. Где бы ему уловить столько учеников, если б он не ссылался на Евангелие? Как бы ему укрыться от критики, когда бы он не настроил себе крепостей из библейского текста? И вот, надобно посмотреть, на чем эти крепости держатся, и эти связи, которыми силится он укрепить и привести к единству свое философское учение, можно ли признать верными и подлинными.
Подлинный, настоящий Толстой как будто верует в Бога, подобно всем христианам.
«По моему мнению, – говорит он в сентябрьском письме 1900 года, – мало сказать, что Бог есть Любовь, Бог есть Слово, Разум. Любовью и разумом мы познаем Бога; но идея Божества не только не тождественна с этими понятиями, но они столь же различествуют с идеей о Боге, как понятие глаза или зрения различествует с понятием света».
Но другой Толстой, оборотный, в основной схеме своего учения, пленяющей восторженных его последователей, прямо отождествляет Бога с понятием Логоса, или Разума; а Бога как существо признает ложью, изобретенною паразитами религии…
Тут не одна только игра грамматических фантазий – тут самые корни толстовства.
Подлинный Толстой, добродушный хозяин Ясной Поляны, знает, что все мы – несовершенные существа большею частью, подобно ему, добродушные люди, кое-как умея работающие над задачами социальной жизни под кровом Высшего Промысла, от коего чаем, наконец, воздаяния в лучшем мире.
«Убеждаюсь более и более (говорит он в октябрьском письме 1900 года, см. листок «Свободного слова» Черткова) в нереальности того мира, в коем мы живем. Не скажу, чтоб это был сон, но это лишь одно из бесчисленных проявлений жизни».
Но философия оборотного, лже-Толстого отвергает чаяние будущей лучшей жизни. Для лже-Толстого мир осеняет не благой Промысл, но злой рок в союзе с паразитами жизни. Жизнь есть борьба зла с разумом. Бог – не правитель вселенной, но простой здравый смысл, слабый пособник человеку против преобладающей силы зла. Это нечто вроде мрачного буддизма, смягчаемого фантазией. Будущая жизнь – тоже изобретение паразитов, одуряющий напиток для рабочего класса людей.
Лже-Толстой, вынуждаясь искать себе опоры в Евангелии, прибегает к тактике самого странного свойства для устранения из Евангелия всяких обетований будущей жизни.
В Евангелии от Матфея Иисус Христос говорит:…вы, последовавшие за Мною, – в пакибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых (Мф. 19, 28).
«Этот стих я опускаю, – говорит Толстой, – так как он не имеет никакого определенного значения… Он или ничего не означает, или звучит насмешкой, иронией».
«У Марка (см. Мк. 10, 30) Иисус говорит: Получит сторицею ныне, и в век грядущий живот вечный, – говорит Толстой (разумеется, совсем неверно), – значит «переходит», и, стало быть, значит: в веке ныне преходящем, стало быть, в этой, в здешней жизни». Это утверждает Толстой, невзирая на бессмыслие превращения вечной жизни в преходящий, временный век.
Не стоит труда проследить стих за стихом толкования Толстого в его изложении Евангелия. Любопытствующие могут сами рассудить об их достоинстве.
Составив какую ни есть систему своего учения, Толстой, казалось бы, должен, если верит в нее, и жить так, как верит. Он объявил, что всякое правительство, всякий закон, всякая собственность – зло, – следовало бы и отвергнуть всякие удобства жизни, на этом зле основанные. Попутно он решительно отвергает и табак, и алкоголь, и мясо. Но жизнь все-таки его пересилила. Свояк его рассказывает, что когда он обработал свою схему единственно возможного счастья, то не только не ощутил себя счастливым, но почувствовал угнетение духа. Жене и детям и на мысль не приходило отказаться от владения Ясною Поляной и добывать себе хлеб полевою работой. Затем стали одолевать его посетители. Дерулед явился и стал склонять его на сторону реванша; стали приезжать романтические дамы (тип, коего он не выносит) с тем, чтоб у него «учиться жить»; появились и дамы практического свойства, угрожая застрелиться, если не спасет их, дав тысячу рублей. Лже-Толстой говорит, что когда люди просят денег, то ради любви к ним не следует давать, а разве только из учтивости, и он же говорит, что когда люди крадут вещи, стало быть, вещи им нужны, и, стало быть, они имеют право взять их. Однако из рассказа выходит, что когда такие дамы являлись, подлинный Толстой выходил из себя, а графиня выживала их из дому.
Сшил Толстой пару сапог – дело, по-видимому, настолько полезное, что один из его поклонников хранит у себя эти сапоги в стеклянном ковчеге. Правительство относилось к нему очень добродушно и снисходительно; но дело требует порядка, и раз как-то Толстой был вызван в суд свидетелем по делу. Девица Сероп, жившая гувернанткой в Ясной Поляне, рассказывает, что Толстой явился в суд в тулупе, выложил на стол сверток рублей, сказав: «Вы не можете меня принудить принять присягу, – вот вам мой штраф», – и вышел вон.
Эта же девица рассказывает, что жалко было смотреть на бедного пророка, когда он пытался бросить курение:
«Он ходил из угла в угол, точно не находил себе места. То зажжет папироску и бросит ее, то пробует вдыхать дым, когда закурят другие. Напоследок все-таки не в силах был совсем бросить привычку – ведь это успокаивало ему нервы. Напрасно люди думают, будто Толстой – аскет в строгом смысле слова».
Лже-Толстой говорит, что литература – порочное дело, а подлинный Толстой точно одержим зудом писательства и не отходит от письменного стола. Один из его портретов работы Репина изображает его, окруженного косами и граблями, как он сидит в неловкой позе на табурете, в своем тулупе, у стола и перед ним два серебряные подсвечника. После обеда, говорит девица Сероп, он прохаживается по лесу
Ознакомительная версия.