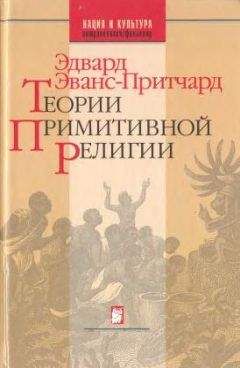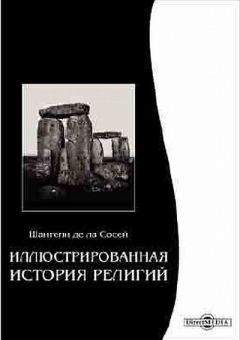Моя задача, следовательно, — быть скорее критичным, чем конструктивным, и показать, почему теории, которые некогда считались приемлемыми, более не являются таковыми и должны быть отвергнуты частично или полностью. Если я смогу убедить вас в том, что многое до сих пор еще не ясно и неопределенно, я буду считать, что мои усилия не пропали втуне. Тогда вы не будете пребывать в иллюзии того, что мы в состоянии дать окончательные ответы на поставленные вопросы.
В самом деле, оглядываясь назад, иногда бывает трудно понять, каким образом многие из теорий, выдвинутых для объяснения представлений первобытного человека и происхождения и развития религии, вообще могли быть сформулированы. И дело не только в том, что в свете новейших исследований мы знаем то, что авторы этих теорий знать не могли. Это, разумеется, так, но, даже имея в виду тот объем фактов, который был им известен, вызывает изумление, как много было написано такого, что противоречит простому здравому смыслу. И вместе с тем — это были ученые с большой эрудицией и способностями. Для того чтобы понять, каким образом ими были сделаны сегодня явно ошибочные интерпретации и объяснения, нужно принять во внимание ментальный климат их эпохи, интеллектуальную среду, ограничивающую их мысль и представлявшую собой любопытную смесь позитивизма, эволюционизма и остатков сентиментальной религиозности. Мы рассмотрим некоторые из этих теорий в последующих лекциях, а сейчас я хотел бы остановиться и прокомментировать как классический пример некогда популярное и влиятельное «Введение в историю религии» Ф. Б. Джевонза5, который в то время (1896 г.) читал лекции по философии в Дарэмском университете. Религия для него представлялась единообразной эволюционной линией развития от тотемизма-анимизма как «скорее примитивной философской теории, чем религиозной концепции» к политеизму и монотеизму, но я не собираюсь обсуждать или анализировать его теории. Я обращаюсь к его книге всего лишь как к лучшему из известных мне примеров того, насколько ошибочными могут быть теории примитивной религии, поскольку я полагаю, что можно утверждать, что в них нет ни одного общего или теоретического утверждения, которое выдержало бы проверку временем. Это коллекция абсурдных реконструкций, необоснованных гипотез и предположений, рискованных спекуляций, предрассудков и допущений, неуместных аналогий, недоразумений и неверных интерпретаций и — особенно в том, что он написал о тотемизме, — просто откровенной бессмыслицы.
Если некоторые из только что рассмотренных теорий кажутся вам слишком наивными, то я попрошу вас обратить внимание на следующие обстоятельства. Антропология была в то время еще в младенчестве и вряд ли к настоящему времени стала взрослой. До самой последней поры она была полем беззаботных упражнений людей пера и сохраняла свой старомодно-спекулятивный и философский характер. Если про философию можно сказать, что ее первые шаги к научной самостоятельности имели место около 1860 г. и не смогли освободить ее от тенет философского прошлого еще на протяжении следующих сорока-пятидесяти лет, то социальная антропология, сделавшая свои первые шаги примерно в то же время, еще дольше испытывала сходные затруднения.
Замечателен тот факт, что ни один из антропологов, чьи теории примитивной религии были наиболее влиятельными, никогда сам не проводил полевые исследования. Это как если бы химик не считал для себя необходимым когда-либо проводить исследования в лаборатории. Антропологи, таким образом, были вынуждены полагаться на информацию, получаемую от европейских путешественников, миссионеров, администраторов и торговцев. И я должен отметить, что к этим свидетельствам необходимо подходить с крайней осторожностью. Я не хочу сказать, что весь этот материал был сфабрикован, хотя иногда случалось и такое, и даже такие знаменитые путешественники, как Ливингстон, Швайнфурт и Палгрейв, сообщали недостоверные сведения. Многое из того, что они говорили, было неверным, не соответствовало современным стандартам профессионального исследования; наблюдения зачастую были поверхностными, случайными, вне контекста и перспективы, и все эти упреки справедливы, до некоторой степени, и в отношении ранних антропологов-профессионалов. Я могу повторить с полной уверенностью относительно ранних описаний идей и поведения «простых» народов, и в еще большей степени — об интерпретации этих данных, что некритическое их принятие совершенно недопустимо; их оценка требует тщательного анализа источников и изучения дополнительных подтверждающих данных.
Любой, кто изучал представителей примитивных народов, о которых ранее писали путешественники и им подобные, может подтвердить, что эти ранние сообщения, даже о предметах, доступных прямому наблюдению, и тем более о религиозных представлениях, которые таковому недоступны, могут быть совершенно неверными. Я приведу всего лишь один пример из области, которая мне хорошо знакома. Учитывая последние публикации и объемные труды о религиях северных нилотов6, странно читать то, что сообщал о них известный путешественник сэр Сэмюэл Бейкер в своем вступительном докладе на собрании Лондонского этнологического общества в 1866 г.: «У всех у них, без исключения, отсутствует вера в Верховное Божество, равно как и какие-либо формы религиозной обрядности или идолопоклонства; разум их, в своем темном невежестве, не освещен даже лучами суеверия. Он пребывает в столь же застойном состоянии, как те болота, которые составляют их жалкое природное окружение». Уже в 1971 г. сэр Эдуард Тайлор смог показать полную неверность этого утверждения. Выводы относительно религиозных представлений людей должны всякий раз восприниматься с величайшей осторожностью, — ведь в этом случае мы имеем дело с тем, что ни европеец, ни туземец не могут непосредственно наблюдать; с понятиями, образами, словами, которые требуют для их понимания хорошего знания языка изучаемого народа, а также всей той системы идей, частью которой является его религия; эта религия может показаться совсем бессмысленной, если отделить ее от той совокупности идей и практик, к которым она принадлежит. Случаи, когда в дополнение ко всем этим условиям наблюдатель имеет еще и научный склад ума, можно сказать, весьма редки. Необходимо признать, что многие миссионеры были образованными людьми и бегло говорили на местных языках, но беглое владение языком далеко не равнозначно пониманию тех реалий, которые этот язык сообщает, чему я часто был свидетелем, наблюдая общение европейцев с арабами или африканцами. В данном случае мы имеем новую причину недопонимания, новый барьер. И туземцы, и миссионеры используют одни и те же слова, но коннотации различны, они несут разные совокупности смыслов. Для человека, не задавшегося трудом тщательно изучить туземные институты, обычаи и привычки в той совокупности, в которой они представлены в туземной же среде (т. е. вне административных, миссионерских и торговых постов), в лучшем случае дело сведется к возникновению своеобразного жаргона, с помощью которого можно обсуждать предметы, знакомые в рамках общего опыта или представляющие взаимную выгоду. Для примера достаточно рассмотреть использование туземного эквивалента для нашего слова «Бог». Значение этого слова для туземца может совпадать в очень незначительной степени, да и то в ограниченном контексте, с тем значением, которое вкладывают в это слово миссионеры. Покойный профессор Хокарт7 цитирует пример такого взаимного непонимания, действительно имевшего место на островах Фиджи: «Когда миссионер говорит о Боге, используя для его обозначения слово ndina, он имеет в виду, что других богов не существует. А туземец понимает это так: только один бог является эффективным и надежным, к помощи других можно прибегать от случая к случаю, но не следует полагаться на них постоянно. Это только один пример того, как учитель имеет в виду одно, а ученик — другое. Обычно обе стороны остаются в счастливом невежестве в отношении своего взаимного недопонимания, и нет другого средства прояснения ситуации, кроме того, чтобы миссионеру взять на себя труд адекватного изучения туземных верований и обычаев».
В дополнение к сказанному сообщения, которые использовались учеными для иллюстрации своих теорий, были не только неадекватны, но и — что особенно актуально в плане тематики данных лекций — в высшей степени избирательны. Больше всего путешественники любили описывать то, что возбуждало их любопытство в качестве диковинки, грубого обычая или было способно вызвать сенсацию. Магия, варварские религиозные обряды, экзотические суеверия превалировали над описаниями аспектов рутинной ежедневной жизни, из которых состоят девять десятых жизни туземца и которые для него наиболее важны: охоты, рыбной ловли, сбора кореньев и плодов, занятий земледелием и скотоводством, постройки домов, изготовления орудий и оружия, короче говоря — его ежедневных дел, домашних и публичных. Этим аспектам не уделялось того места и внимания, которых они заслуживали в связи с большими затратами времени и значимостью в жизни описываемых туземцев. В результате чрезмерного внимания к тому, что наблюдатели рассматривали как любопытные суеверия, оккультные и таинственные явления, они зачастую рисовали картину, в которой мистическое (в леви-брюлевском значении этого слова) занимало на полотне значительно больше места, чем в реальной жизни «примитивных» племен, так что их эмпирический, ежедневный, трудовой, обычный мир здравого смысла, казалось, имел сугубо второстепенное значение, а сами они намеренно изображались ребячливыми несмышленышами, нуждающимися в отеческой опеке со стороны администрации и рвении миссионеров; в последнем — особенно если в обрядах туземцев присутствовал «желанный» элемент «непристойности».